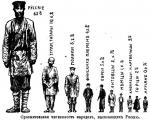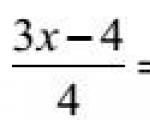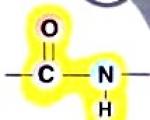Из воспоминаний ракетчика. Конструктор "булавы" пустился в мемуары Мемуары и воспоминания конструкторов
ВОСПОМИНАНИЯ КОНСТРУКТОРА
РАКЕТНОГО ВООРУЖЕНИЯ О.И. МАМАЛЫГИ
Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук. 2015. № 1.
Статья рассказывает об истории создания отечественных мобильных высокоточных твер-дотопливных тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработку уникальных комплексов успешно осуществляет Конструкторское бюро машиностроения (город Коломна Московской области).
В середине 50-х годов прошлого столетия Специальное конструкторское бюро, расположен-ное в городе Коломне Московской области, резко изменило ход своей истории. СКБ создавалось для разработки минометов и мин. Деятельность шла в соответствии с разработанной теоретиками ми- нометостроения системой калибров, необходимых Красной, затем Советской армии. Самоходный 420-миллиметровый миномёт «Ока» был после-дним в этом ряду. Свою миссию СКБ выполнило.
Но начиналась эра ракетной техники. Осно-ватель СКБ, его начальник и главный конструктор Борис Иванович Шавырин (рис. 1) не побоялся принять ответственность за разработку тяжелых боевых ракет.
Опыта создания этого вида вооружения не было не только у СКБ. Его практически не было во всём мире, кроме Германии. Б.И. Шавырин изучал появившиеся образцы первых противотан-ковых ракетных комплексов, организовал пере-подготовку сотрудников, реформировал структу-ру предприятия. Создавал новые подразделения, тщательно выбирал людей, формируя конструкторские группы, оснащал отделение испытаний, опытное производство.
Благодаря его таланту и конструкторской смелости СКБ создало первый принятый на во-оружение Советской армии противотанковый ра-кетный комплекс «Шмель». Затем — самый эф-фективный в своём классе ПТРК «Малютка». Приступило к выполнению совершенно фанта-стической на тот момент задачи — проектирова-нию лёгкого и малогабаритного зенитного ракет-ного комплекса, который боец мог бы вскинуть на плечо, прицелиться и сбить низколетящий са-молёт.
В те годы СССР приходилось постоянно отве-чать на вызовы стран капиталистического лагеря. Американцы приступили к созданию межконти-нентальных высокоточных ракет. Основными их целями стали 20 советских городов: Москва, Ле-нинград и другие крупные стратегические узлы.
Рис. 1. Шавырин Б.И.
Когда советская разведка вскрыла правду о планах американских стратегов, перед советски-ми конструкторами поставили задачу создать бал-листические ракетные комплексы. Помимо высо-кой точности потребовали обеспечить высокую мобильность пусковых установок для снижения риска уничтожения ударами противника.
Тяжелые ракеты до того момента делали толь-ко жидкостными. Но на этот раз партия и прави-тельство пошли на эксперимент. Двум организа-циям: Специальному конструкторскому бюро и Московскому институту теплотехники под руко-водством А.Д. Надирадзе — поручили разработ-ку мобильных комплексов на твёрдом топливе.
СКБ начало работу совместно с КБ «Южное» М.К. Янгеля. КБ «Южное» разрабатывало раке-ту, СКБ — двигатель. Борис Иванович отчётливо понимал, что только принципиально новые идеи обеспечат выполнение технических требований. Когда стояла такая задача, Шавырин действовал проверенным способом — формировал специаль-ные группы, набирая из всего КБМ наиболее спо-собных и талантливых людей. Такая методика отличалась высокой продуктивностью.
В спецгруппу по разработке комплекса вош-ло около 150 конструкторов и технологов. Это был большой, сложный организм, который генериро-вал допустимые варианты конструкций, в том числе с ракетным прямоточным двигателем. В конце кон-цов, ракету решили делать трёхступенчатой с ус-корителем. Ускоритель разгонял двигатель до нуж-ной скорости, а потом отделялся, и дальше начинали работать сначала первая, затем вторая, а потом третья ступени.
Группе инженеров, в числе которых были М.Г Васин , СП. Ванин, В . А. Матюнин, В.Д. Немыкин, Г.Г. Одинцов и другие пришла мысль в ка-честве двигательной установки первой ступени ис-пользовать ракетный прямоточный двигатель оригинальной компоновки. Такой двигатель зна-чительно уменьшал стартовую массу ракеты. Осо-бенность такого двигателя заключалась в том, что он очень чувствителен к компоновке. Является господствующим узлом в конструкции ракеты и диктует свои требования. Обычный твердотоплив-ный двигатель — моноблочная конструкция, дос-таточно автономная. Его можно состыковывать с различными частями ракеты, и он будет выдавать нужные параметры. Прямоточка требует, чтобы всю ракету построили под неё. Так появился окон-чательный проект «Гном».
Мы сделали двигатель, состоящий из двух са-мостоятельных частей: воздухозаборника и каме-ры сгорания. Воздухозаборник — устройство, ко-торое принимает набегающий воздух, сжимает его и подает в камеру сгорания. Одновременно туда поступают продукты предварительного сгорания из твердотопливного газогенератора. Удалось со-здать уникальную конструкцию воздухозаборни-ка. Она обеспечивала эффективную работу двига-теля в широком диапазоне скоростей полёта раке-ты. В пиковой части траектории через двигатель должно было проходить 1200 кг воздуха в секунду. Испытания проводили в два этапа по мере нара-щивания мощностей. На первом этапе мы создали стендовый двигатель размером в одну треть от на-туральной величины и начали исследование рабо-чих процессов в камере сгорания. Провели около десяти стендовых испытаний. Камера сгорания стала частью контейнера ракеты. Это тоже было новаторство. Пожалуй, и сегодня ничего подоб-ного в мире нет. Толщина стенки камеры состав-ляла 60 мм. Миномётный старт — тоже была но-винка, кстати, подхваченная потом Надирадзе.
Камеру сгорания нужно было сделать лёгкой, прочной и устойчивой к высоким температурам. Для этого придумали трёхслойную стеклопласти-ковую конструкцию. Первый слой — прочност-ной и жаростойкий. Второй — стеклосотовый. Третий, внешний, — снова прочностной. Стек-лоткань и углеткань предстояло намотать на оп-равку. Спроектировали и изготовили специаль-ный кабестан — лебёдку, чтобы стянуть намотку с оправки. Изготовили её в Ижевске, на заводе «Ижбуммаш», из алюминиевых сплавов. Перевез-ли в Хотьково в Центральный научно-исследова-тельский институт специального машинострое-ния на стеклопластиковое производство. К этому моменту был изготовлен натурный полномасш-табный двигатель. Когда произошёл его первый запуск, акустическая энергетика была столь мощ-ной, что в ближайших домах вылетели стёкла. Двигатель выпустил огромный столб дыма.
При натурном пуске получили очень хоро-шие энергетические результаты. Коэффициент полноты сгорания топлива — главный критерий — оказался равен 0,99. Большие размеры двига-теля поспособствовали максимальному сгоранию топлива (рис. 2).
С Горьковского машиностроительного заво-да стали поступать изготовленные по нашим чер-тежам отсеки двигателя и ракеты. В КБМ созда-ли сначала небольшое сборочное производство, потом значительно его расширили. Мы готови-лись к сборке первого макета ракеты в натураль-ную величину. Был изготовлен, но, к сожалению, не успел пройти испытания ускоритель для раз-гона ракеты — тоже твердотопливный.
В итоге сделали эскизный проект всего комп-лекса: ракеты, средств по её подготовке, управле-нию, пусковой установки на танковом шасси, кото-рое разработал и изготовил Кировский завод (глав-ный конструктор Жозеф Яковлевич Котин). Эскиз-ный проект подтвердил возможность создания мо-бильного ракетного комплекса с необходимыми боевыми и эксплуатационными характеристиками.
После кончины Б.И. Шавырина предприятие, которое к тому времени поменяло название и ста-ло именоваться КБМ — Конструкторское бюро машиностроения, возглавил другой не менее вы-дающийся конструктор Сергей Павлович Непо-бедимый (рис. 3).
Благодаря применению прямоточки масса ра-кеты «Гном» с транспортно-пусковым контейне-ром составила 31,2 тонны при стартовой массе ракеты 29 тонн. Дальность стрельбы составляла 11 000 километров. Ускоритель — четырёхсопловый РДТТ на смесевом топливе — размещался внутри прямоточного двигателя. Применение миномётного старта позволило свести к миниму-му тепловое и динамическое воздействие поро-ховых газов на ракету и гусеничный носитель.
На первой ступени сначала в течение 17 се-кунд работал ускоритель, разгоняя ракету до ско-рости, соответствующей 2М. Скорость схода ра-кеты составляла 45 м/с . В диапазоне скоростей полёта ракеты М = 2,0...5,8 на высотах 4...38 км начинал работать РПДТ. После отделения РПДТ включалась вторая ступень, а затем третья.

Рис. 2. Макет твердотопливной ракеты «Гном»

Рис. 3. Непобедимый С.П.
Вто-рая ступень была размещена внутри центральной трубы РПДТ, разделение РПДТ и этой ступени происходило при запуске двигательной установ-ки второй ступени.
Вторая и третья ступени были оснащены дви-гателями на смесевом твёрдом топливе. Двига-тельная установка третьей ступени работала до полного выгорания топлива, а необходимая ско-рость полёта обеспечивалась доводкой за счёт тяги управляющих двигателей и отсечкой тяги управ-ляющих двигателей по главной команде от систе-мы управления. В ходе разработок двигательных установок учитывались последние достижения отечественной промышленности в области созда-ния высокоэнергетических твёрдых топлив, кон-струкционных и эрозионно-стойких материалов.
Несмотря на значительные успехи в разработ-ке, «Гном» это не спасло. В 1967 году на заседа-нии Военно-промышленной комиссии было при-нято решение закрыть тему. «Гном» остался единственным в мире проектом межконтиненталь-ной баллистической ракеты, оснащённой твердо-топливным прямоточным двигателем. Огромная, уникальная работа осталась невостребованной. Но опыт и достижения коллектива не пропали да-ром, в КБМ передается НИР по созданию мобиль-ного высокоточного твердотопливного тактичес-кого ракетного комплекса. Название НИР было соответствующим — «Точка».
Создание «Точки» на первом этапе поручи-ли конструкторскому бюро «Факел», город Мос-ква. Работа пошла в хорошем темпе. В том же 1967 году «Факел» представил предварительный проект. Но «Факел» специализировался на зенит-ных ракетных комплексах. В Министерстве обо-ронной промышленности и ГРАУ посчитали нуж-ным передать тему коломенскому КБМ. Главным аргументом, лежавшим на весах принятия реше-ния, послужил задел, который КБМ наработало, создавая «Гном». Имелось ядро конструкторов, которые уже не нащупывали путь вслепую, а дей-ствовали с открытыми глазами, с учетом накопив-шегося опыта. Появились зачатки производствен-ной и испытательной базы. Рядом с полигоном КБМ в заречной зоне Коломны КБМ оборудова-ло новые производственные площади.
Требований, которые заказчик предъявил к «Точке» (рис. 4), до тех пор никто не выдви-гал. Комплекс должен быстро передвигаться по любой местности, в том числе преодолевать не-большие водные преграды, скрытно готовиться к пуску, чтобы авиация противника не могла обнаружить с воздуха, прицеливаться, пускать ракету и уходит со стартовой позиции — бук-вально за минуты.
КБМ являлось головным предприятием по разработке комплекса. С.П. Непобедимый при-влек 120 других КБ, предприятий, научно-иссле-довательских институтов. ЦНИИАГ, Москва (главные конструкторы Б.С. Колесов, А.С. Пар-фенов и А.С. Липкин, директоры И.И. Погожев, Г.Н. Посохин) создавал систему управления ра-кеты. Люберецкое НПО «Союз» (руководитель академик Б.П. Жуков) — твердотопливный заряд для двигателя. Конструированием самоход-ной пусковой установки и транспортно-заряжающей машины занималось отдельное конструк-торское бюро завода «Баррикады», Волгоград (руководитель Г. И. Сергеев). Командно-гирос-копический прибор создавало НПО «Электро-механика», Миасс, фугасную боевую часть — НИМИ, Москва, специальную — ВНИИЭФ, Ар-замас-16. Систему прицеливания — киевское ПО «Завод Арсенал», бортовой турбогенераторный источник питания — воронежское НПО «Энер-гия», систему топопривязки и навигации — ковровский ВНИИ «Сигнал». Трёхосное колесное шасси для самоходной пусковой установки и транспортно-заряжающей машины (ТЗМ) спро-ектировал Брянский автомобильный завод. И так далее.

Рис. 4. Самоходная пусковая установка ракетного комплекса «Точка»
В марте 1969 года КБМ приступило к рабо-чему проектированию, изготовлению и испыта-ниям отдельных узлов ракеты. Первый этап от-работки прошел в отделении испытаний КБМ. Для решения вопросов старта ракеты разработа-ли специальный испытательный ракетный сна-ряд (ИРС) с двигательной установкой, рассчитанной на небольшое время работы, то есть га-баритно-весовую копию ракеты и макетную пусковую установку. Результаты пусков ИРСов лег-ли в основу решений ряда вопросов по ракете и пусковой установке.
До 1973 гг. макеты и опытные образцы раке-ты изготавливали в КБМ. Затем подключились Петропавловский завод тяжелого машинострое-ния и Воткинский машиностроительный завод. Эти два предприятия очень хорошо дополняли друг друга и тесно взаимодействовали. В Воткинске отливали корпуса приборного и хвостового отсеков — в Петропавловске производили их ме-ханическую обработку. На ПЗТМ начали делать двигатели и газогенераторы бортовых источни-ков питания — на ВМЗ их снаряжали, так как у ПТЗМ поначалу не было базы для работы с порохами.
ПЗТМ постоянно увеличивал количество ос-военных операций. Заводу поручили разработку автоматизированной контрольно-испытательной машины (АКИМ), с чем КБ предприятия велико-лепно справилось. Постепенно петропавловцы полностью освоили сборку ракеты, двигателей и АКИМ.
Начались полигонные испытания. Они про-ходили на полигоне Капустин Яр. Военные прекрасно понимали, что новая тех-ника создается для них. Нам помогали абсолют-но все. Добрым словом те, кто когда-то бывал на площадках полигона, вспоминают его первого начальника, фронтовика, генерал-полковника Василия Ивановича Вознюка. Любой вопрос он решал положительно и быстро.
В «Точке» были выполнены все требования ТТЗ. Ее дальность составила 15- 70 км. Точность настолько высокая, что на максимальной дально-сти ракета попадала, что называется, в колышек. Требование по мобильности также было выполне-но. Машины получились маневренными — пер-вую и третью оси шасси сделали поворачивающи-мися, хорошо проходимыми, умели плавать. Для этого в конструкцию шасси ввели водометы. Вре-мя на подготовку к пуску с марша составило всего 16 минут, из готовности № 1 — 2 минуты 20 се-кунд. Это была революция. Предшественники «Точки» готовились к пуску несколько часов, не-которые их них — сутки. Все это время пусковая установка стояла с поднятой ракетой, и ее можно было легко засечь средствами воздушной развед-ки. В «Точке» мы обеспечили скрытность подго-товки. Пока экипаж выполняет операции по под-готовке к пуску, ракета лежит за закрытыми створ-ками пусковой установки. В положении для пуска ракета находится всего 15 секунд.
Мы провели неоднократные эксперимен-ты. Рыли большой окоп, загоняли туда пусковую установку, накрывали маскировочной сет-кой и давали задание летчикам найти комплекс в заданном квадрате. Пилоты придирчиво ос-матривали местность. Обнаружить комплекс не удалось ни разу, настолько высоки его маскиро-вочные свойства.
Семьдесят километров ракета преодолева-ет за 136 секунд. На конечном этапе траектории по командам системы управления пикиру-ет на цель под углом 80 градусов. Команду на подрыв фугасной боевой части дает неконтакт-ный взрыватель.
Запас хода пусковой машины составляет 650 км. Транспортная машина может доставлять ракеты к месту старта за 1 000 км.
СПУ перезаряжается с помощью транспортно-заряжающей машины примерно за 20 минут — и снова готова к пуску. Головная часть ракеты меняется прямо в войсках: на СПУ, ТЗМ и ТМ. Транспортная машина перевозит две ракеты или четыре головные части.
Комплекс прошел большой цикл климатичес-ких испытаний. Сначала — в термокамерах на полигоне. Затем — в Туркмении, Забайкалье, на Кавказе. Изучалась возможность работы в диапа-зоне от - 40 до + 40 градусов Цельсия, в равнин-ной и горной местности. Комплекс выдержал эти испытания.
Пусковая установка с ракетой и экипажем весила 18 тонн. Габариты ее были невелики. «Точ-ку» можно было загнать в «брюхо» самолета, трюм корабля, погрузить на железнодорожную платфор-му. Возможности для транспортировки оказались безграничны.
В августе 1975 года комплекс поступил на во-оружение со специальной и осколочно-фугасной боевой частью. Началось серийное изготовление. В 1976 г. комплекс стал поступать в войска.
Высокоточным оружием с фантастическими характеристиками сразу заинтересовались другие страны. «Точку» начали экспортировать. В НАТО она получила индекс SS-21.
Серийное производство комплекса продолжа-лось с 1975 по 1989 гг. Для проверки качества ПЗТМ делал контрольные отстрелы от партии — пускал по пять ракет в год: одну с телеметричес-кой начинкой и каждый квартал по боевой. Кро-ме того, по планам боевой подготовки ракеты пускали военные.
Специализация КБМ — твердотопливные комплексы. Ракета «Точки» — не исключение. Однорежимный двигатель представляет собой камеру сгорания с сопловым блоком и размещен-ными в ней топливным зарядом массой 909 кг и системой воспламенения.
Ракета имеет одну ступень. Оперение состо-ит из четырех Х-образно расположенных непод-вижных крыльев, при транспортировке склады-вающихся попарно, четырех аэродинамических и четырех газодинамических рулей, предназначен-ных для управления полетом. Головные части сменные.
Аппаратура ракеты включает в себя автоном-ную инерциальную бортовую систему управле-ния с гиростабилизированной платформой и цифровой вычислительной машиной, которая обеспечивает полет по заданной траектории. В отличие от тактических комплексов предыду-щего поколения, в которых ракета, получив не-обходимую скорость движения, дальше летит по траектории свободно брошенного тела, «Точка» управляется на всем протяжении полета — до цели. Именно это обеспечивает высокую точ-ность попадания.
Возможность автономной работы СПУ обес-печивается составом аппаратуры. Она включает в себя наземную вычислительную машину, гиро-компас, пульт ввода полетных данных, аппарату-ру топогеодезической привязки, радиостанцию.
Не для кого не секрет, что в тактической зоне обороны противника размещены радиолокацион-ные станции аэ родромов, системы ПВО и другое радиоизлучающее оборудование. В начале 1970-х годов Военно-промышленная комиссия Совмина СССР предложила КБМ создать для ТРК «Точ-ка» специальную ракету, «приманкой» для кото-рой были бы радиоизлучающие объекты.
Об этой работе мало знают, так как ракету приняли на вооружение в 1983 году, перед нача-лом развала Советского Союза. Серийное произ-водство длилось недолго. Ракеты успели поста-вить только на Украину. Очень обидно, что уникальная разработка не досталась России. Ею оснащено теперь уже другое государство.
Тогда же, в 1983 году, ракета «Точка-Р» в со-ставе комплекса «Точка» единственный раз при-
няла участие в общевойсковых учениях. По двум мишенным обстановкам, включающим РЛС П-35, были выпущены две ракеты, которые успешно уничтожили цели.
Принцип работы «Точки-Р» основан на при-менении пассивной радиотехнической головки самонаведения (ПРГС), сопряженной с системой управления. Разработчиком головки самонаве-дения стало ЦКБ автоматики, г . Омск (руково-дитель предприятия — А. С. Киричук). Омичи создали ПРГС в двух частотных диапазонах ра-диоволн.
Во время летных и совместных испытаний ракеты «Точка-Р» в составе комплекса «Точка» с 1980 по 1982 гг. проводились пуски по мишен-ной обстановке, главным объектом которой была РЛС П-35, работавшая в разных режимах: непре-рывное излучение, излучение с паузами 5 х 5 се-кунд и 10 х 10 секунд. Прицеливание ракеты осу-ществлялось в точку расположения РЛС. Кроме того, был проведен ряд пусков, когда создавали дополнительные помехи, а радиолокационную станцию после прицеливания ракеты смещали. Максимальное отклонение составило 2 400 мет-ров. Даже в таких сложных условиях головка са-монаведения удержала цель, и ракета выполнила боевую задачу.
По мере выполнения очередной задачи совет-ское правительство ставило новую , каждый раз усложняя условия. ВПК Совмина ССР и Мино- боронпром потребовали на 50 км увеличить даль-ность комплекса. При этом сохранить точность, оставить неизменным состав комплекса, обеспе-чить возможность применить на новом комплек-се ракету ТРК «Точка».
Ответить на вопрос, возможно ли выполнить поставленную задачу, могли только полномасш-табные научно-исследовательские работы. По рас-поряжению С.П. Непобедимого такие работы в КБМ прошли. Теоретические изыскания подтвер-дили возможность увеличить дальность полета ракеты. Чтобы выполнить это требование, нуж-но было применить топливо с более высоким ко-эффициентом теплоотдачи и увеличить его коли-чество. Новое топливо создало НПО «Союз».
Дополнительный объем в ракете «выкроили», уменьшив толщину стенок корпусов приборного и хвостового отсеков с 5 мм до 3 мм. Для этого корпуса отсеков сделали не литыми, а сварно-штампо-клепанными. Большую работу здесь провели технологи: В.Н. Алексеев, А.С. Буслов, Л.С. Трав-кин и другие. Прежнюю массу ракеты сохранили за счет снижения сухого веса и создания двига-тельной установки с прочно скрепленным с кор-пусом зарядом. Точность — за счет доработки гиростабилизированной платформы.
К нашей гордости, отказов этих комплексов не зафиксировано ни разу. При гарантийном сроке эк-сплуатации 25 лет ТРК «Точка» и «Точка-У » эф-фективен и выполняет боевую задачу и по истечении установленного периода. Особенно восхищает военных ювелирная точность комплекса.
По современным меркам сегодня «Точка» уже старушка. Но по-прежнему в строю, стоит на во-оружении. Противопоставить ей аналогичный по своим характеристикам комплекс до сих пор не смогла ни одна другая страна мира.
Еще шла конструкторская работа по ТРК «Точка», когда руководство страны поручило КБМ новую НИР — по созданию оперативно-такти-ческого комплекса с дальностью полета 400 км. Давать название комплексу в то время было при-вилегией главного конструктора. Сергей Павло-вич Непобедимый приехал в Коломну молодым инженером в 1945 году и влюбился в этот ста-ринный город. КБМ стало его судьбой. Предпри-ятие располагалось на высоком берегу Оки. Под окнами кабинета начальника и главного конст-руктора, словно река времени, текли неторопли-вые воды, на протяжении столетий защищавшие границы русских рубежей. Новому комплексу Сергей Павлович дал название «Ока».
Помимо требований, предъявляемых к «Точке»: мобильность, высокая точность, проходи-мость, автономность, отсутствие демаскирующих признаков — добавились новые. Комплекс дол-жен уметь преодолевать противоракетную оборо-ну противника. Стоимость ракеты нужно мини-мизировать, конструкцию сделать достаточно простой для серийного производства. Головных частей должно быть две: кассетная и специаль-ная, но ракетная часть должна быть единой.
Мы решили разбить алгоритм полета ракеты на два этапа. На первом этапе ракета управляет-ся. На втором двигатель отсоединяется, головная часть летит к цели по баллистической траекто-рии. Перехватчикам будет сложно обнаружить и еще сложнее попасть в маленькую по размеру го-ловную часть. Кроме того, головную часть и ан-тенну радиодатчика защитили покрытием, погло-щающим радиоволны. В состав специальной боевой части ввели закрытый сбрасываемым об-текателем двухчастотный датчик, работающий в импульсном режиме, сигнал которого средства ПРО уловить практически не могли. На локато-рах головная часть была почти не видна.
Для управления ракетой как в плотных слоях атмосферы, так и на больших высотах, применили аэродинамические и газодинамические органы уп-равления. Аэродинамические рули сделали решет-чатыми, кинематически связанными с разрезными соплами двигательной установки. Это позволило минимизировать вес и габариты рулевых приводов за счет уменьшения шарнирных моментов и опти-мального соотношения нагрузок на рулевые ма-шинки по высоте траектории ракеты при обеспе-чении необходимой динамики полета.
Для «мягкого» отделения головной части в двигателе предусмотрели систему обнуления тяги. Ракетную часть оснастили тормозным двигателем. После продувки в аэродинамических трубах выб-рали оптимальный вариант размещения тормоз-ной двигательной установки — в хвостовом от-секе. Таким образом, воздействие набегающего потока и истекающих газовых струй на головную часть оказалось незначительным. Так как голов-ные части были разными по размерам, сделали переходной отсек, который нивелировал разницу в габаритах.
Объем отработки был обширным. Одна толь-ко ракета прошла более 60 видов испытаний, не считая продувки в аэродинамических трубах, ис-пытаний двигательной установки. Для наземной отработки изготовлено 7 видов макетов: электрически-действующие, габаритно-весовые, для тепловых, статических, динамических, климати-ческих испытаний.
В создании комплекса принимали участие более 150 предприятий, в общей сложности 100 тысяч человек. КБМ в этой кооперации выпол-нило функцию головной организации, являясь одновременно разработчиком ракеты и комплек-та арсенального оборудования.
Разработчиком и изготовителем опытных об-разцов аппаратуры систем управления, как и для «Точки» и «Точки-У », стал московский ЦНИИАГ. Опытный образец пусковой установки разрабо-тали в КБ завода «Баррикады» и изготовили на этом заводе, серийным производством занялся Петропавловский завод тяжелого машинострое-ния. Ракеты выпускали в Воткинске. Брянский автозавод разработал и изготовил четырехосное плавающее шасси, которое оснастили восемью ведущими колесами с независимой торсионной подвеской и широкопрофильными шинами пере-менного давления. Для движения по воде маши-на получила два водометных движителя. На том же шасси располагалась ТЗМ, которая перевози-ла в кузове две ракеты.
Состав ОТРК был следующим: пусковая ус-тановка, транспортно-заряжающая машина, транспортная машина, комплект арсенального оборудования, учебно-тренировочные средства, машина регламента и технического обслуживания ракет и наземного оборудования. Самоходная пус-ковая установка заряжалась одной ракетой. Сме-на головных частей и их стыковка проходила на СПУ, ТЗМ и ТМ.
Время пуска с марша у «Оки» составляло 15 минут. Прицеливание проходило при закры-тых створках пусковой .
Если ось пусковой установки не совпадала с вектором направления на цель, система управле-ния в полете разворачивала ракету на нужный курс, позволяя менять угол на 90 градусов в обе сторо-ны. У «Точки» этот угол составлял 15 градусов. Это заслуга программистов, разработчиков аппа-ратуры системы управления и ракеты в целом.
Комплекс был полностью автономным. Са-мостоятельно определял свое положение на местности. В состав наземной контрольно-пусковой аппаратуры вошли системы прицеливания, топопривязки и комплексной автоматики на базе спе-циализированной ЭВМ «Аргон-15А».
ГРАУ потребовало расширить температурный диапазон работы комплекса на 10 градусов Цель-сия в каждую сторону. Это вполне понятно. Лет-няя температура + 50 градусов и выше — неред-кое явление для Средней Азии. А - 40 градусов и ниже — для Забайкалья. Требовалось расширить температурный диапазон использования ракеты без обогрева и охлаждения изделия. Комплекс должен работать и при - 50°С , и при + 50°С. Казалось бы, всего 10 градусов в минусовую сторону, если срав-нивать с температурным диапазоном, в котором работал ТРК «Точка». Но потребовалось разрабо-тать новые теплозащитные покрытия и даже но-вую рецептуру твердого топлива для двигателя.
С этой новой рецептурой возникла серьез-ная проблема. Оказалось, что в процессе хранения заряда выделяются летучие элементы. Было несколько случаев, когда под воздействием ста-тического электричества под бронечехлом заряд самовоспламенился. Причину искали и исправ-ляли довольно долго, на восемь месяцев задер-жав начало совместных испытаний.
Прошло менее двух лет с момента выхода приказа о предварительной разработке комплекса — а уже состоялся пуск первого натурного испыта-тельного снаряда. Спустя еще полтора года про-шли совместные огневые испытания телеметри-ческой ракеты на стенде упругой подвески. Это очень короткие сроки.
Конструкцию «Оки» (рис. 5) разработали так, что расчет собственными силами мог производить небольшой ремонт, для чего у него имелся комп-лект ЗИПов. Приборы из числа заменяемых разместили в переднем торце приборного отсека, снабдили встроенными салазками и быстродей-ствующими зажимами. С заменой элемента с лег-костью справлялся единственный человек.

Рис. 5. СПУ ТРК «Ока» перед пуском
Испытания ракеты со специальной БЧ нача-лись в третьем квартале 1977 года и закончи-лись в июле 1979 г. Ракету приняли на вооруже-ние постановлением Центрального комитета КПСС и Совета Министров СССР № 980-320 от 28.11.1979 г. Однако ее серийное производство началось еще в январе того же года.
На зимних испытаниях в Забайкалье мы стол-кнулись с проблемами, о которых никто даже не подумал. Во время проверки техники нужно подключать кабели в разъемы каждой машины. Разъе-мы закрыты небольшими люками. При страшных морозах люди носят уже не матерчатые, а меховые двухпалые рукавицы. Рука в рукавице в люк не пролезала.
Пришлось нам вносить изменения в конструкцию и расширять люки.
Обычные, не военные, автомобили в это вре-мя года там ездят с «выключенным» передним мо-стом. Прогревать его долго. Поэтому передние колеса используются, как лыжи, — не вращаются.
Второй этап совместных испытаний (раке-ты с кассетной БЧ) длился с третьего квартала 1979 г. по 23 мая 1980 г., когда состоялся после-дний пуск. Тогда же, в мае, началось серийное производство ракеты. А принята на вооружение Советской армии она была постановлением Цен-трального комитета КПСС и Совета Министров СССР № 421-127 от 29.5.1980 г.
На совместные испытания были поставлены 31 ракета, 16 макетов, комплекты учебно-трени-ровочных средств.
Стартовый вес ракеты со специальной БЧ со-ставил 4 360 кг, ракеты с кассетной БЧ — 4 630 кг, длина — 7,516 м, дальность полета — 50- 400 км, угол старта — 80°, время пуска из готовности № 1 — 2 минуты 10 секунд, с неподготовленной позиции — 14 минут 50 секунд. Повторный пуск можно было осуществить через 40-50 минут. Свертывание СПУ занимало менее 5 минут, сроч-но покинуть огневую позицию пусковая установка могла и менее чем за минуту.
По шоссе СПУ развивала скорость 75 км/ч, по бездорожью — 20 км/ч, вплавь — 8 км/ч.
По классификации НАТО комплекс получил шифр SS-23. «Ока» надежно закрыла границы России. Была размещена как на западных рубе-жах Родины, так и на территории дружественных стран. За счет этого и своей дальности в 400 ки-лометров перекрыла значительную территорию европейского континента, став важнейшим условием сдерживания «холодной войны», особенно в части её ядерной составляющей. Точным попа-данием одной ракеты «Оки» могла быть уничто-жена пусковая установка оперативно-тактической ракеты, дальнобойная артиллерия, системы зал-пового огня и другие ключевые объекты.
При этом понять, откуда «Ока» нанесет удар, чтобы обезв-редить комплекс и предотвратить пуск, было сложно. Мобильный всепроходимый ОТРК мог нести боевое дежурство где угодно, и до тех пор, пока не раскрывались створки пусковой и ракета не поднималась вверх, обнаружить его ни с зем-ли, ни с воздуха было невозможно (рис. 6).
Промышленность успела изготовить и поста-вить в войска 106 боевых машин и 360 ракет ОТРК «Ока». В войсках создавались специаль-ные учебные центры по освоению нового вида оружия. Для солдат и офицеров было предметом гордости служить в ракетной бригаде ОТРК «Ока».

Рис. 6. Самоходная пусковая установка ОТРК «Ока», замаскированная под грузовик нефтегазоразведки, на технической позиции в Капустином Яре. 1979 год
Едва «Оку» приняли на вооружение, в КБМ интенсивно развернулась работа по созданию нового комплекса. «Ока-У » должна была рабо-тать в паре с самолетом разведчиком, в задачу которого входило сообщать координаты цели эки-пажу ОТРК и подавать управляющие команды для коррекции траектории летящей ракеты. Таким образом, можно было наносить эффективные уда-ры по движущимся целям, например, по танковой колонне.
В головной части ракеты сконструиро-вали специальный отсек для аппаратуры, которая принимала информацию с борта самолета.
Предполагалась возможность использовать ракету в составе разведывательно-ударных комп-лексов и даже перенацеливать летящую ракету на другой объект, если поступила команда от самолета-разведчика.
Одновременно развернулись работы по со-зданию фронтового ОТРК «Волга» дальностью 1 000 километров.
В начале восьмидесятых в США был принят на вооружение зенитный ракетный комплекс «Patriot». С появлением ОТРК «Ока» стало ясно, что комплекс можно отправлять на свалку. Аме-риканцев это категорически не устраивало. Даль-ше историю уничтожения «Оки» рассказывать не буду. Ее все прекрасно знают.
Были уничтожены также опытные образцы ракет, пусковых установок, макеты, оснастка и прочая материальная часть для изготовления «Оки-У » и «Волги». Работа по ним прекращена.
В конце того же года С.П. Непобедимый , воз-мутившись дикими порядками, навязанными стра-не перестройкой, ушел с поста руководителя пред-приятия. Начальником и главным конструктором в КБМ выбрали (согласно провозглашенным прин-ципам демократии главных конструкторов пред-приятий в течение нескольких смутных лет выби-рали трудовые коллективы)
Н.И. Гущина , на долю которого пришлись непростые годы развала народ-ного хозяйства, обернувшиеся катастрофой для оборонно-промышленного сектора страны.
К тому времени в КБМ уже приступили к созданию нового оперативно-тактического комп-лекса, дальность которого даже близко не подпа-дала бы под действие договора о РСМД. Им стал «Искандер».
Поначалу в кузове СПУ планировалось разме-стить одну ракету, как у ОТРК «Ока». Перед КБМ поставили задачу, чтобы «Искандер» уничтожал как неподвижные, так и подвижные цели. В свое время такая же задача стояла перед «Окой-У ».
Разведывательно-ударный комплекс, в кото-рый «Искандер» входил как средство огневого по-ражения, получил название «Равенство». Разра-батывался специальный самолет-разведчик, он же наводчик. Самолёт обнаруживает, допустим, тан-ковую колонну на марше. Передаёт координаты на пусковую установку ОТРК. Далее корректирует полёт ракеты в зависимости от передвижения цели.
Разведывательно-ударный комплекс должен был поражать от 20 до 40 целей в час. Требова-лось много ракет. Тогда я предложил разместить на пусковой две ракеты.
Каждая ракета весит 3,8 тонны. Удвоение боезапаса заставило пересмотреть габариты и гру-зоподъемность пусковой установки. До этого шас-си для наших комплексов: «Точки» и «Оки» — делал Брянский автозавод. Теперь же пришлось обратиться на Минский завод колесных тягачей, который спроектировал четырехосные шасси.
Дальность работы ОТРК задали 300 километ-ров, чтобы гарантированно не превысить дальность, установленную договором. По-прежнему оставалось требование обеспечить высокую ве-роятность преодоления противоракетной оборо-ны противника. Но в отличие от «Оки» у нового комплекса не должно быть ядерного заряда. Бое-вую задачу он должен выполнить за счет высо-чайшей точности.
Работа пошла в хорошем темпе. Эскизный проект КБМ представило уже во втором кварта-ле 1989 года. На этот раз ракету сделали без отде-ляемой головной части. Преодоление системы ПРО базировалось на нескольких решениях. Во - первых, максимально снизили эффективную по-верхность рассеивания ракеты. Для этого ее кон-тур сделали максимально гладким, обтекаемым, без выступов и острых граней.
В ходе эксплуатации нужно проверять рабо-тоспособность ракеты, пристыковывать аппара-туру. Нужно ее транспортировать, грузить, заря-жать. То есть без разъемов, элементов крепления и других технологических приспособлений было не обойтись.
Решение вновь нашли нестандартное. На ра-кету установили две обоймы с вспомогательны-ми элементами. Каждая состояла из двух полуко-лец, соединенных пирозамками. Когда ракета сходила с направляющих, система управления по-давала сигнал, обоймы отстреливались, выдвига-лись специальные автоматические крышки, ко-торые закрывали люки и места разъемов, и ракета становилась «гладкой».
Чтобы ракета стала малозаметной для лока-торов, ее защитили особым покрытием. Но глав-ное — наделили способностью активно манев-рировать и сделали ее траекторию совершенно непредсказуемой. Рассчитать упрежденную точ-ку встречи с таким объектом, в отличие от объекта, движущегося по баллистической траектории, очень трудно, следовательно, ракету практичес-ки невозможно перехватить.
Ни одна другая в мире тактическая и опера-тивно-тактическая ракета не обладала и не обла-дает такими свойствами. Провели совершенно уникальную работу, которая заставила пересмот-реть многие вещи, заложенные в эскизном проек-те. В процессе отработки стало ясно, что от обли-ка наземного оборудования, заданного в ТТЗ, мало что осталось. «Искандер» (рис. 7) стал неким про-межуточным звеном в создании комплекса ново-го поколения.
Первый пуск опытной ракеты состоялся 18 фев-раля 1993 г. А через четыре дня вышел Указ Пре-зидента РФ от 22.2.1993 г. № 276 по развертыва-нию опытно-конструкторских работ по ОТРК «Искандер-М», на который было выдано новое ТТЗ, основанное на новом подходе к построению комплекса и оптимизировавшее все решения по «Искандеру».
Новый ОТРК был не переделкой старого, не модернизацией, а совершенно иным изделием, выполненным на основе других технологий, бо-лее совершенным (рис. 8) . Он вобрал в себя передовые достижения не только отечественной, но и мировой науки и промышленности. В состав комплекса вошли самоходная пусковая установки, транспортно-заряжающая машина, пункт подготов-ки информации, комплект учебно-тренировочных средств, средства регламента и технического об-служивания, командно-штабная машина, предназ-наченная для автоматизации боевого управления, и автономные переносные автоматизированные рабочие места.
В «Искандере-М» впервые появилась воз-можность вводить необходимые данные для фор-мирования полетного задания автоматически. Пункт подготовки информации обрабатывает разведывательные, топографические и другие дан-ные и по каналам связи передает их по подчинен-ности в командно-штабные машины, далее они идут в систему управления пусковой установки. Зада-чей экипажа остается подготовить СПУ и ракету и нажать кнопку «Пуск». Дальше ракетой управля-ет бортовая система управления. ОТРК оснасти-ли спутниковой системой навигации. Но и авто-номная система топопривязки осталась. Комплекс сделали полностью автономным, то есть обеспе-чили способность выполнить боевую задачу од-ной боевой машиной.
Работа над «Искандером-М» держалась в зна-чительной степени на энтузиазме и патриотизме предприятий ядра кооперации: КБМ, ЦНИИАГ, ЦКБ «Титан» — и при поддержке ГРАУ .
Отработка «Искандера-М» перешла большей частью в расчетно-теоретическую сферу. Объем испытаний предполагал 20 пусков, но значитель-но сократился. В 1993 году пустили пять ракет, в следующем году — две, а дальше на протяжении трех лет — по одной в год. Зато активизирова-лась переписка с министерствами. Ответы, кото-рые получало КБМ, были словно писаны под ко-пирку: средств нет.
Помог опыт разработки «Точки», «Точки-У », «Оки», «Оки-У», «Волги». Все расчеты много-кратно проверялись. Тщательнейшим образом проводилась стендовая отработка элементов ком-плекса.
Из-за резкого снижения объемов финанси-рования на оборону разработчику и генеральному заказчику (ГРАУ) пришлось кардинально изменить методику создания ракетного комплекса «Искандер-М» и принимать нестандартные решения . Чтобы уложиться в выделяемые суммы, элемен-ты комплекса отрабатывали поэтапно. На первом этапе — самые сложные: ракету и систему уп-равления. ГРАУ и предприятия промышленности разработали программу предварительных авто-номных испытаний ракеты (ПАИ) и создали спе-циальную комиссию из военных и разработчиков. Система управления и ракета были штатными, а пусковая установка — макетной.
Первые четыре пуска подтвердили правиль-ность технических решений. Однако дальше раз-работчики столкнулись с проблемой. На пятом пуске на последних секундах работы двигатель вскрылся, ракета стала неуправляемой и пошла по одной ей ведомой траектории.

Рис. 7. Самоходная пусковая установка ОТРК «Искандер-М»

Рис. 8. «Искандер-М» переправляется через Дон по понтонному мосту

Рис. 9. Осмотр ракеты ОТРК «Искандер-М»
При предварительном анализе и исследова-ниях причину аварии установить не смогли, и следующий пуск тоже оказался аварийным.
После второго неудачного пуска (рис. 9) в высших военных кругах встал вопрос, не закрыть ли тему вообще. Тем более что денег на разра-ботку не было. И только позиция ГРАУ, его руководителей: генерал-полковника А.П. Ситнова, ставшего впоследствии заместителем министра обороны — начальником вооружения, генерал- полковника Н.А. Баранова, генерал-лейтенанта Г. П. Величко — спасла тему. Эти люди отстояли «Искандер-М»
Привлекли ЦНИИмаш и НИИ тепловых про-цессов. Общими усилиями разобрались, что про-изошло. Оказалось, примененный метод управ-ления полетом ракеты, предполагавший большие поперечные, почти как у зенитных ракет, пере-грузки, во время работы двигателя приводил к образованию в камере сгорания «жгута» твердой фазы продуктов сгорания, так называемой К-фазы, которая разрушала теплозащитное покрытие и корпус двигателя.
Комплекс сразу поразил военных высочайшей эффективностью. В ходе госиспытаний были прове-дены пуски по специально сформированной мишен-ной обстановке, включающей реальные командные пункты, представляющие собой мощные бетонные сооружения, заглублённые, покрытые грунтом. Ра-кета комплекса уничтожала их одним ударом.
Постановлением правительства № 172-12 от 31.3.2006 ОТРК «Искандер-М» в базовой комп-лектации с ракетой, оснащенной кассетной бое-вой частью, был принят на вооружение.
В 2010 году завершились государственные испытания крылатой ракеты, в 2012-м — аэробаллистической с осколочно-фугасной боевой ча-стью и аэробаллистической с проникающей фу-гасной боевой частью.
С введением в состав комплекса этих ракет обеспечена прецизионная точность стрельбы, бо-евые возможности и эффективность существен-но увеличены. ОТРК получил новое качество — это высокоточное оружие большой дальности, отвечающее самым современным требованиям.
18 ноября 2014 года состоялось радостное событие — КБМ сдало Министерству обороны уже четвертый за два года комплект ОТРК «Искандер-М».
Я счастлив, что мое дело и дело моих това-рищей, многих тысяч людей, которые вложили труд и душу, продолжается, развивается.
Литература
1. Буренок В.М., Журавлев А.В., Карпачев И. А. Становление и развитие методологии обоснова-ния системы вооружения ВС и программы воо-ружения государства. // Военная мысль. 2002. № 6. — С. 70.
2. Буренок В. М., Лавринов Г. А., Подольс-кий А. Г. Оценка стоимости военной научно-техни-ческой продукции. // Военная мысль. 2001. № 3. — С. 25
3. Рахманов А. А., Буренок В.М., Лавринов Г. А. Оценка реализуемости Государственной програм-мы вооружения. // Военная мысль. 2001. № 1.
По итогам многих дискуссий специалистов сформулировал для себя три общих правила (в большинстве случаев срабатывают):
1) Если в серию не пошел замечательный самолет – смотри на мотор.
2) Если в серию не пошел замечательный пулемет/автомат/пушка – смотри на цену.
3) Если проиграл замечательный полководец – смотри на снабжение.
Например, вот что пишет Сергей Абросов в «Воздушной войне в Испании».
Вся партия прибывших И-16 (31-я серия, з/н 5210217-5210278) оказалась бракованной и практически малопригодной для боевых действий. Формально поступившие И-16 были 5-го типа, в действительности они имели отличие от выпущенных ранее машин, обозначенных тем же 5-ым типом. Главное отличие «нового» И-16 тип 5 от «старого» И-16 тип 5 заключалось в установке другого двигателя – М-25А (начиная с 25-й серии), который был немного мощнее М-25. Кроме этого, новый И-16 имел воздушный винт меньшего диаметра. Другие изменения, о которых просили летчики (усиление вооружения, установка козырька кабины и бронеспинок), не были внесены. Конструкторы и производственники поставили новый, неопробованный двигатель и снизили мощность планера. Возможно, это давало на испытаниях прибавку несколько километров в час к максимальной скорости. А на практике оказалось, что крылья новых И-16 отваливались в воздухе, двигатели «сдавали» (т. е. выходили из строя) после считанных часов работы. Подробно об этом сообщается в письме инженера Стоклицкого от 8 июля 1937 года. «Катастрофы на И-16 вызвали резкое недовольство летного состава, эти явления все увязывали с вредительством на заводе» - докладывал 28.08.1937 полковник П. А Котов.
«Конечно, были и есть целый ряд явлений в нашей жизни, которые отрицательно влияли и влияют на настроение летного состава. К таким явлениям относятся: присылка нам вредительски построенных самолетов И-16 с мотором М-25 (апрель-май). В этих моторах мы находили стружку и тряпки; эти моторы очень плохо работали, дребезжали и трясли. Не было почти ни одного вылета, чтобы у кого-либо мотор не сгорел. Часть самолетов этой серии, присланная нам, не была опробована в воздухе даже на заводе.
В результате, как известно, мы понесли серьезные потери вне боя, когда на простом пилотаже ломалась консоль правой или левой плоскости. Так погибли товарищи Колесников и Лесников. Не исключена возможность, что та же консоль явилась причиной гибели тов. Моисейко, Бурова, Аржанова, а возможно, еще кое-кого» (полковой комиссар С. Ф Агальцов, доклад от 20.12 1937) (стр. 145-146).
В итоге даже опытнейшие летчики, орденоносцы П. Н. Шустов и М. Д. Романов, пилот знаменитой «красной пятерки» В. М Кравченок отказывались летать, ссылаясь на нездоровье.
Еще пример – история знаменитого И-185 . Часть вторая .
2) Автомат Федорова был очень сложен в производстве – слишком жесткие допуски. Даже сам Федоров не предлагал его как основное оружие пехоты. Поэтому и стоил автомат как половина «Максима» или 46 трехлинеек, частники сразу требовали заказа не менее 50 000 штук. В первой партии на Румынском фронте их воевало… восемь штук. А на Западном – четыре. Запустить автомат в серию смогли только в 1921, а сделали за все время серийного производства только 3200 (Федосеев, «Техника и вооружение», № 4 за 2007 год). При этом в Туркестане «автоматическое ружье Федорова совершенно отказалось от работы»
.
Ту-2 на 1942 год стоил миллион
рублей (втрое-вчетверо больше Ил-2), при этом на 93 вылета - по техническим причинам потеряно семь самолетов. "Несмотря на то, что полк летал днем и без прикрытия, немецким истребителям не удалось сбить ни одного Ту-2. Вообще, более серьезную угрозу представляли ненадежные двигатели М-82. Их аварии стали причиной 11 вынужденных посадок и прекращения десяти боевых вылетов. По разным причинам пришлось заменить 17 двигателей, еще восемь дорабатывали последние часы моторесурса".
Или ЗИС-2 – хорошая пушка против танков, но на 1941 хоть и выпускалась, но стоила ровно как батарея дивизионных орудий (70 000 рублей и 17 500) или БТ-7, и при этом была крайне малоэффективна против других целей – не было хорошего ОФ снаряда. А ЗИС-3 могла работать по всем целям на поле боя (и танкам тоже) и в серии цена снизилась до 9 тысяч. А Ф-34 стоила пять тысяч, чуть дешевле сорокапятки или трех пулеметов ДТ с дисками.
3) Талантливый полководец Карл XII, с отличной армией, в решающей кампании оставил ее без еды, воды и пороха. А впереди был Полтавский бой… Не менее талантливый Роммель расходовал на немецкую дивизию в полтора раза больше ресурсов, чем американцы на свою, и втрое больше воды на человека, чем англичане, а потом жаловался на итальянцев. У Ватутина под Харьковом имевшийся автопарк мог перевезти горючего вдвое меньше потребностей....
Закончу цитатой из Михаила Николаевича Свирина:
-Что так смутило? Массовая не всегда хорошая.
-Это кто же делает плохое массово? Такое действо давно (у нас с XVIII века) вредительством зовется. Нет в истории таких примеров, чтобы плохое и массово. Как раз именно хорошее и стремились выпускать наиболее массово. А если соотношение "цена-качество" было великоватым, то работали над удешевлением.
В.Г. Репин, "События и люди" (из книги Н.Г. Завалия "Рубежи обороны - в космосе и на земле. Очерки истории ракетно-космической обороны", М., 2003)
Главный конструктор. Первые шаги
(окончание)
В части взаимодействия с ПРО СПРН принимала на себя задачи приведения средств ПРО в боевую готовность и обеспечения их информацией целеуказания по атакующим объекты обороны баллистическим ракетам. Такие же и более широкие функции, вплоть до решения задачи целераспределения и контроля боеготовности, принимала на себя СККП по отношению к средствам ПКО. В свою очередь проектами предусматривалось, что имеющиеся средства дальнего обнаружения ПРО, как источники информации о баллистических целях и космических объектах, должны выступать в той же роли, что и радиолокаторы СПРН.
Таким образом, разработанные проекты помимо внутреннего содержания работ по СПРН и СККП определили также идеологию, техническую концепцию, технические и алгоритмические способы формирования единой системы РКО. И хотя такая система никогда не была оформлена как единое конструкторское изделие со своим техническим паспортом, формуляром и прочей требуемой госстандартами технической документацией, практически эта концепция была воплощена в жизнь технически и организационно.
Разработанные проекты были всесторонне рассмотрены соответствующими экспертными комиссиями, полностью одобрены и послужили основой для развернутой программы работ, утвержденной директивными документами. Уже в январе 1972 года вышло постановление ЦК КПСС и правительства, определившее содержание, обеспечение и сроки первоочередных работ по СПРН. Особо запомнилось мне рассмотрение комплексного проекта «Экватор», наверное потому, что это был первый из многих впоследствии итог творчества большого количества коллективов, который мне довелось представить и защищать вместе со своими товарищами. Председателем межведомственной комиссии по приемке проекта был тогдашний заместитель Главкома войск ПВО П.Ф. Батицкого В.В. Окунев. Он совсем недавно вернулся из Египта, где был главным военным советником в самый напряженный период арабо-израильской войны. На собственном опыте он глубоко осознал решающую роль информационного обеспечения боевых действий и в отличие от предыдущего первого заместителя Главкома А.Ф. Щеглова прекрасно понимал громадное стратегическое значение своевременной и качественной информации предупреждения. Работать с ним было и интересно и плодотворно. Жаль только, что это сотрудничество продолжалось недолго.
В 1973 году был сделан не очень масштабный, но очень ценный и заслуживающий упоминания тем, что он был первым, практический шаг по реализации разработанных концепций. Коллективами СКБ-1, СКБ-3 НТЦ и НИИДАР ЦНПО «Вымпел» с участием НИИ-2 МО и эксплуатирующих частей объектов была проведена программно-алгоритмическая модернизация КПК РО и ГКВЦ системы А-35, обеспечившая функционирование и информационное взаимодействие существовавших на то время средств ПРН и ПРО. Успешные имитационные и натурные испытания подтвердили правильность проектных положений и взаимное повышение характеристик. Многолетний барьер был сломан, появился зародыш РКО как единой стратегической системы.
В ходе этой работы начали складываться и укрепляться деловые и дружеские отношения с офицерами и генералами войск, которым предстояло осуществить эксплуатацию создаваемых средств и систем. Тогда эти войска были еще немногочисленны и состояли из управления ПРО и ПКО под командованием Ю.В. Вотинцева и дивизии СПРН под командованием В.К. Стрельникова. Потом уже вместе с ростом числа технических средств и решаемых ими задач росли и войска. Появилась отдельная армия СПРН, корпуса ПРО, ККП и ПКО и объединяющее их командование рода войск РКО.
Поначалу многие, работавшие раньше с гвардией разработчиков Минца и Кисунько, с большой осторожностью отнеслись к новым неизвестным им людям и внимательно присматривались к ним, оценивая их деловые и человеческие качества. Но постепенно ледок отношений растаял. Общее дело накрепко и на долгие годы связало меня с истинными энтузиастами этого дела первого и последующих призывов Ю.В. Вотинцевым, В.К. Стрельниковым, В.А. Едемским, Н.В. Кисляковым, Н.Г. Завалием, А.М. Михайловым, Г.А. Вылегжаниным, В.С. Гусаченко, И.П. Писаревым, Н.И. Родионовым, В.П. Панченко, Б.А. Алисовым, В.М. Красковским, Г.Д. Юрасовым, Г.Д. Мостовым и многими-многими другими. Не мал их вклад в создание технических средств СПРН и СККП, а уж в создание, становление и воспитание войск и освоение ими сложнейшей боевой техники является решающим.
Конечно же, во взаимоотношениях с ними, как во всяком живом и сложном деле, бывало всякое, в том числе иногда и непонимание трудностей и довольно резкие столкновения. Но это все-таки были редкие эпизоды, а перманентной основой были отношения самого искреннего сотрудничества. Хочется отметить какие-то черточки хотя бы некоторых из них. Это совсем не полные характеристики, а именно характерные черточки людей, которые стали моими большими друзьями.
Юрий Всеволодович Вотинцев, заслуженный, опытный, очень требовательный и довольно жесткий военачальник, заслуживал восхищения постоянным стремлением к познанию новых и непривычных для него технических проблем. Он совсем не стеснялся, несмотря на высоту своего ранга, учиться и старался дойти до самой сути. Такую манеру поведения он старался привить и своим подчиненным. Стремление знать и понимать все не только по докладам, но главным образом по собственным впечатлениям постоянно влекло его на создаваемые и несущие боевое дежурство объекты, к живому общению со строителями, монтажниками, разработчиками и своими подчиненными. Наверное, не менее половины своей службы командующим он провел на объектах. Безусловно, что в том деле, которым мы занимались и которое изобиловало просто неясными и совершенно неясными вопросами, эти черты его характера имели громадное положительное значение.
Владимир Константинович Стрельников, первый командир дивизии и первый командующий армией СПРН, был, вероятно, самым большим энтузиастом этой системы в Вооруженных Силах СССР. Его, по образованию и воспитанию общевойскового командира, отличало глубокое знание техники, понимание сути и сложности технических проблем и, что было особенно приятно, прекрасное знание многих ведущих разработчиков, их достоинств и особенностей. Людям, заслужившим у него авторитет и доверие своими качествами, было легко и, я бы сказал, даже как-то радостно работать с ним. Всегда можно было рассчитывать на взаимопонимание, какие бы временные трудности и неудачи ни случались. Он воспитал целую когорту командиров и инженеров СПРН, при нем был отлажен порядок несения боевого дежурства. Владимир Константинович был прекрасным пропагандистом СПРН, его глубокие по сути и хорошо воспринимаемые по форме доклады хорошо воспринимались и запоминались многими высокопоставленными посетителями КП СПРН и немало способствовали созданию благоприятной атмосферы к работам по СПРН.
Василий Александрович Едемский, заместитель Ю.В. Вотинцева по вооружению, отличался глубоким знанием существа технических проблем, трудностей их решения и очень способствовал тому, чтобы создаваемые технические средства быстрее передавались войскам и включались в боевую работу. Внешне очень мягкий и скромный человек, он умел проявлять предельную твердость перед начальством в отстаивании своей точки зрения. Помню эпизод, когда он был председателем комиссии по проведению государственных испытаний головного образца РЛС «Днепр» на радиолокационном узле в районе г. Балхаш. Испытания были проведены с положительными в целом результатами, выявив в то же время ряд заметных недоработок. По заверениям разработчиков они могли быть устранены в сжатые сроки при подготовке рЛС к несению боевого дежурства. Комиссия, ее председатель и я, как главный конструктор системы, ознакомившись с результатами непосредственно на объекте, были склонны поверить этим заверениям и завершить испытания подписанием акта с рекомендациями принять РЛС «Днепр» на вооружение и провести необходимые доработки ее головного образца в процессе эксплуатации, в том числе первоочередные — в течение одного-двух месяцев до постановки на боевое дежурство. Ю.В. Вотинцев по поступившим к нему докладам имел иную точку зрения, требовал от В.А. Едемского приостановить испытания, полностью провести доработки и заново испытать РЛС почти по полной программе. Эта, может быть формально и правильная, позиция вела тем не менее к значительному увеличению сроков ввода в строй как головного, так и последующих образцов РЛС «Днепр», уже создаваемых в то время на других объектах. Будучи глубоко убежден в правильности своей точки зрения, В.А. Едемский, несмотря на прямой запрет своего непосредственного командира, провел заключительное заседание с подписанием акта государственной комиссии. Конечно, над ним как председателем госкомиссии никакого начальства уже не было, но по основной-то службе у него был командир с резко иной точкой зрения. Кстати, к чести Ю.В. Вотинцева нужно отметить, что вскоре, более глубоко разобравшись в сути дела, он признал свою неправоту и в дальнейшем умел находить разумный компромисс между сущностными и формальными требованиями.
Аналогичным было поведение В.А. Едемского и во время государственных испытаний системы ПРН первого этапа, когда он возглавлял подкомиссию по государственным испытаниям на КП СПРН головного образца новой высокопроизводительной ЭВМ 5Э66 разработки М.А. Карцева. Эта по тем временам суперЭВМ параллельного действия во всем была хороша, но еще не удовлетворяла требованиям надежности, и в значительной степени из-за недостаточной отработанности операционной системы. Вместе с разработчиками Василий Александрович был убежден, что эти недостатки скорее всего будут выявлены и устранены в процессе эксплуатации, когда к ним будут относиться с максимальной ответственностью и серьезностью. Было немало противников такой точки зрения, и в данном случае ему пришлось ее отстаивать перед значительно более резким в словах и действиях человеком, облеченным очень большими полномочиями, —председателем государственной комиссии по испытаниям системы, первым заместителем, а вскоре и Главкомом ПВО маршалом авиации А.И. Колдуновым. Несмотря на угрозы, он твердо стоял на своем и сумел убедить оппонентов.
Николай Григорьевич Завалий, пришел в СПРН из системы ПРО-35 на должность начальника штаба армии и быстро стал ее патриотом. Очень энергичный, знающий и легко обучающийся новому человек, он был требователен к разработчикам, подчиненным и умел себя поставить перед начальством. Помню забавный эпизод. Как-то при проведении боевой работы системы по обнаружению пуска реальной баллистической ракеты один из заместителей главного конструктора РЛС «Дуга» Ф. А. Кузьминского, будучи на КП СПР попросил присутствовавшего в этот момент Ю.В. Вотинцева провести его в командно-оперативный зал КП СПРН, чтобы присутствовать там и понаблюдать за ходом боевой работы на средствах отображения. Юрий Всеволод вич обратился к Завалию: «Николай Григорьевич, вы не возражаете?», на что тот ответил: «Я не возражаю, я его не пущу». Конечно, последовала соответствующая реакция со всякими нехорошими словами, закончившаяся тем, что Вотинцев написал в журнале оперативного дежурного СПРН письменное распоряжение о допуске. На это последовало: «Товарищ командующий, докладываю вам, что персональный состав допущенных в зал боевого управления КП СПРН лиц определен приказом Главнокомандующего войсками ПВО. Ваше распоряжение незаконно и не подлежит выполнению». Этим инциден был исчерпан.
Если говорить о более серьезных вещах, то из многих достоинств Николая Григорьевича следует выделить его особую любовь к вопросам боевого управления. Во многом благодаря его разумной настойчивости в составе СПРН была создана уникальная автоматическая подсистема контроля боеготовности, оценки текущих характеристик и боевых возможностей и управления соответствующим техническим и программно-алгоритмическим обеспечением. Он с полным правом может считать себя соразработчиком этой подсистемы.
Николай Владимирович Кисляков, заместитель В.К. Стрельникова по вооружению, затем сменивший В. А. Едемского и ставший его достойным преемником. Глубокий знаток техники, он был настоящим главным инженером высокотехнологичного рода войск. Спокойный, уравновешенный человек, Николай Владимирович имел особый талант оказаться рядом, когда возникали серьезные трудности, и всегда помогал найти выход из них. Немногие люди обладают этим качеством, многие предпочитают быть при сем, когда все хорошо, и уйти в тень, когда становится трудно. Он пользовался громадным авторитетом, умел мягко, но настойчиво воплощать в жизнь свою позицию. Настоящая дружба и только хорошие воспоминания связывают с ним меня и многих моих товарищей.
Вернусь снова к теме первых шагов. В этой связи стоит рассказать о трудностях, с которыми пробивалась в жизнь разработка радиолокационной станции «Дарьял». Этот уникальный до настоящего времени по энергетическому потенциалу, гибкости управления им, дальности действия и пропускной способности радиолокатор, спроектированный РТИ на самых передовых технических решениях, ставших с тех пор эталонными для радиолокационной техники, далеко не сразу завоевал право на существование.
Трудности начались с рассмотрения разработанного в 1970 году аванпроекта РЛС. Председатель комиссии тогдашний первый заместитель Главкома ПВО А.Ф. Щеглов выступил резким противником этой разработки. Генерал армии А.Ф. Щеглов вскоре был переведен в Западную группу войск, и я не успел как следует узнать и понять его, но насколько понял тогда, глубокой технической основы у его позиции не было. У него явно проявлялось какое-то органическое неприятие радиотехнического института и как будто был какой-то конфликт с Г.Ф. Байдуковым, распространявшийся на все подначальное ему ведомство Генерального заказчика —4-е главное управление Минобороны. Некоторая часть комиссии, естественно, присоединилась к председателю, и судьба проекта повисла на волоске. В этой ситуации блестящими бойцами показали себя М.Г. Мымрин и В.Н. Селиверстов, о которых я писал раньше. Несмотря на прямые угрозы совершенно не стеснявшегося выражений большезвездного генерала, они с завидной твердостью вместе с конструкторами отстаивали эту важнейшую разработку и добились того, что дорога ей была открыта.
Следующая коллизия случилась во второй половине 1973 года и продолжалась около года. На этот раз атака на «Дарьял» возникла в собственном лагере внутри Министерства радиопромышленности и ЦНПО «Вымпел», до того полностью поддерживавших и собственно разработку РЛС «Дарьял», и ее роль и место в архитектуре системы ПРН, определенные проектом «Экватор» и указанные постановлением ЦК КПСС и правительства.
В какой-то мере В.И. Маркова и министра радиопромышленности В. А. Калмыкова можно было понять. Пришла пора реализации проекта РЛС, а для этого нужно было решить колоссальные по сложности технологические и производственные задачи. Нужно было создать технологии и организовать массовое производство передающих модулей, фазостабильных кабелей, радиопрозрачных укрытий на высокую плотность мощности, цифровой приемной аппаратуры, серийное производство высокопроизводительных ЭВМ, организовать кооперацию более десятка военно-промышленных и общепромышленных министерств и многое-многое другое.
На фоне этих трудностей, как рояль в кустах, появился разработанный под руководством А.Н. Мусатова альтернативный проект РЛС «Дарьял-С». Суть предложения сводилась к некоторой модернизации РЛС «Дунай-ЗУ», приближавшей ее тактико-технические характеристики к заданным на РЛС «Дарьял», но существенно не достигавшими этого уровня. Такая альтернатива, опиравшаяся на уже существующие технологические и производственные возможности, конечно, была с сиюминутных позиций значительно более выгодной для руководства министерства, которое стимулировало и поддержало эту альтернативу. В то же время, кроме некоторого ущерба боевым возможностям и характеристикам СПРН, она ставила крест на возможности существенного прогресса радиолокационной техники и технологических прорывов в области создания высо-копотенциальных радиолокаторов.
По этим соображениям я резко выступил против альтернативного предложения и вступил в довольно острый конфликт с руководством. При этом случилось так, что начало атаки пришлось на время довольно длительной моей болезни, а замещавший меня А.А. Курикша не смог найти убедительных аргументов в защиту утвержденных проектных решений, и когда я вышел из больницы, то дискуссии были в полном разгаре. Пришлось пройти и выдержать процедуру самых разнообразных экспертиз. Борьба была очень жесткой и осложнялась многими факторами. Нашлись сторонники простой альтернативы у Заказчика и военно-промышленной комиссии. В РТИ тогда еще не было главного конструктора РЛС «Дарьял», многоопытный боец Ю.В. Поляк и его наиболее активные соратники были поглощены завершением работ на головной РЛС «Днепр» и проблемами создания радиолокационных узлов на базе этих РЛС и вели себя очень невыразительно по сравнению с напористой командой А.Н Мусатова из НИИДАР. В то же время приятно порадовал тогда молодой директор РТИ Б.П. Мурин. Будучи в общем-то специалистом другого профиля, он вместе со мной активно и аргументированно защищал разработку «Дарьяла» и смело брал на себя ответственность за ее реализуемость.
Итогом этой довольно длительной истории стал отказ от попытки ревизии принятых проектных решений. И здесь я должен отдать должное В.И. Маркову. Фактически выдвинув альтернативное предложение и попортив многими доступными ему способами немало нервов всем несогласным с ним, после того как его инициатива была отвергнута, он не встал в позу и сделал для организации производства и строительства РЛС «Дарьял» так много, что по праву может считаться одним из основных его создателей.
«Дарьял» принес мне еще немало очень острых переживаний. Когда станция уже приближалась к испытаниям и работала на высоком уровне мощности, на ней случился пожар, серьезно повредивший передающую систему. В те дни мы вместе с главным конструктором РЛС В.М. Иванцовым были на объекте в районе Мингечаура в Азербайджане, где создавался второй образец РЛС, и нужно было решить какие-то текущие вопросы. Как раз был воскресный день, можно было немного отдохнуть, и мы большой компанией поехали километров за сто от объекта на рыбалку на Мингечаурское водохранилище. Среди прочего там в большом количестве ловились замечательные раки. И вот, когда громадный котел с красными красавцами и все остальное, что к ним полагается, расположились в центре веселой компании и прозвучал первый тост, к берегу подъехала машина с посланцем с объекта. Он передал нам с Виктором Михайловичем указание министра немедленно лететь в Печору, ясную информацию о том, что следует сразу же, не заезжая на объект, ехать в Тбилиси, где нас ждет самолет, и совершенно неясную информацию, что в Печоре на головной РЛС «Дарьял» что-то случилось. Раков пришлось оставить. Ситуация была совершенно необычная, и несколько часов по пути до Тбилиси и ближайшего телефона ВЧ-связи нам пришлось здорово помучиться в неведении, предполагая самое худшее. Только после разговора с Печорой из Тбилиси стало ясно, что произошла беда, а не катастрофа, и можно было немного успокоиться.
Последовал трудный анализ причин пожара (было установлено, что причиной была не чья-то халатность, а очень резкое и не предсказываемое существовавшими дотоле методиками физическое явление фокусировки электромагнитной энергии в нештатной точке), разработка мер по устранению этих причин, общих мер повышения пожарной безопасности и восстановления антенны с внедрением всего комплекса этих мер.
Последний период восстановительных работ я вместе с В.М. Иванцовым и главным конструктором антенных систем Г.Г. Бубновым постоянно находился на объекте. Здесь же очень часто и подолгу присутствовало разное промышленное и военное руководство. И вот тогда, когда все предварительные проверки были закончены и предстояло вновь включить станцию на высокий уровень мощности, все руководство по разным причинам отбыло в Москву. Старшим военным начальником остался главный инженер специального управления Министерства обороны по созданию объектов СПРН В.В. Рожков. Именно войсковые части этого управления осваивали строящиеся объекты СПРН, осуществляли с участием промышленности их эксплуатацию на стадии создания, а затем обогащенные этим опытом переходили в состав армии ПРН. И только эксплуатационный расчет этой части юридически и физически мог изменить режим работы РЛС, для чего ему, конечно же, в данном случае нужно было решение руководства и соответствующая команда.
Вот с командой-то и оказалось трудно. Главком, первый заместитель Главкома, заместитель Главкома по вооружению, собственные министр и его заместитель — все оказались недосягаемы по телефону. Единственный, до кого удалось дозвониться, оказался М.И. Ненашев. На мои сетования он прямо сказал: «Что же ты хочешь? Все равно ты никого не найдешь! Вы там главные конструктора и принимайте решение сами. Будет все нормально, так хорошо, а сожжете станцию — можете сесть в тюрьму. Единственное, чем могу посодействовать, так это тем, что посоветую В.В. Рожкову под ваше гарантийное обязательство дать распоряжение командиру части исполнить предписание Главного конструктора».
Мы с В.М. Иванцовым и Г.Г. Бубновым последовали совету, подписали соответствующий документ, а В.В. Рожков, отчаявшись получить какие-либо четкие указания от вышестоящего командования и сам лично будучи убежден в правильности этого решения, отдал необходимые распоряжения. Глубокой ночью станция вышла в эфир на полную мощность, ничего страшного не случилось, мы провели на ней несколько часов, уточнили программу первоочередных проверок и уехали отдыхать в городские квартиры.
Вот здесь и пришлось пережить потрясение. Утром, узнав по телефону, что на станции все в порядке, и наскоро позавтракав, мы с Иванцовым поехали на объект. Минут через 20, когда машина поднялась на возвышенность, с которой открывался прекрасный вид на РЛС, мы увидели громадный столб черного дыма над зданием передающей позиции. Можно представить себе наше состояние. Виктор Михайлович мрачно пошутил: «Ну что, едем прямо или сразу налево?» (Туда вела дорога в печорскую исправительную колонию строгого режима). Я не менее мрачно ответил ему: «Все равно без особиста и конвоя не примут, так что давай сначала разберемся». По счастью, через 15 минут стало ясно, что в колонию ехать не нужно. Горел всего лишь рулон рубероида, который солдат из бригады по отделке здания пристройки к передающей антенне ухитрился уронить прямо на пылающий свежий сварочный шов. Дымит рубероид очень здорово, и издалека казалось, что горит антенна, так что вместе с этим несчастным рубероидом у нас с Иванцовым сгорело порядочно нервных клеток.
После назначения главным конструктором мой образ жизни и режим работы здорово изменился. С 1970 по 1987 год около четверти жизни я провел на дальних объектах, расположенных по всей периферии нашей громадной страны от Закарпатья и Крыма на западе до Приморья и Камчатки на востоке и от Кольского полуострова и Заполярья на севере до Азербайджана и Таджикистана на юге. Летал я по ним с разными целями. Сначала выбор конкретной дислокации объекта. Потом личное знакомство с состоянием и контроль за ходом капитального строительства, монтажных и настроечных работ на общеинженерном и специальном технологическом оборудовании с оперативным решением бесчисленного множества вопросов. Затем автономные конструкторские и государственные испытания средств и, наконец, их информационная и функциональная стыковка с командным пунктом системы, отработка взаимодействия и испытания в составе системы. Вопросов было больше чем достаточно. Летал я по объектам и один и вместе со своими коллегами-разработчиками, а часто вместе с руководящими представителями Министерства обороны —Генерального штаба, войск ПВО, Заказчика и военных строителей.
В этих поездках я приобрел много соратников, добрых товарищей и друзей, каждый из которых внес большой вклад в создание системы. Из гражданских коллег просто не могу не упомянуть о начальнике 10-го главного управления Минрадиопрома В.Г. Дудко (через этот главк В.И. Марков осуществлял управление НПО «Комета» и всеми строительными и монтажно-настроечными работами на объектах), его ближайших помощниках В.В. Фадееве и В.И. Курышеве, начальнике и главном инженере ГПТП В.Н. Казанцеве и И. А. Ярыгине, которые со своим коллективом и тащили тяжелейший воз монтажных и строительных работ. Со всеми ими мне довелось пережить много трудностей и радостей.
Быстрому и масштабному развертыванию работ по СПРН много способствовал один из главных инициаторов ее создания заместитель начальника Генерального штаба В.В. Дружинин. Его повседневная деятельность и частые инспекционные поездки по объектам, а также научные труды хорошо запомнились всем участвовавшим на том этапе в работах по созданию СПРН. Всем нам повезло, что многие годы в Генеральном штабе интересы СПРН и других компонент РКО представлял начальник направления Главного оперативного управления А.А. Феденко. Он блестяще отстаивал эти интересы перед руководством Генерального штаба и умел добиваться приоритетного выделения финансовых и материальных ресурсов.
Очень хорошо сработались мы с М.М. Коломийцем. Руководимое им специальное управление по вводу в строй объектов СПРН начинало работу на них с первого колышка после выбора дислокации. Его люди принимали первые десанты военных строителей, организовывали и координировали работу строительных и промышленных монтажных организаций, принимали сначала на хранение, а затем в эксплуатацию инженерное оборудование и технологическую аппаратуру, формировали, воспитывали и передавали в армию войсковые части объектов. Всей этой громадной по объему и сложности работой многие годы умело руководили замечательный человек Михаил Маркович и когорта его помощников И.Д. Аркадьев, В.В. Рожков, С.А.Сандригайло и другие.
Близко познакомился я на деловой основе и с руководителями военных строителей Н.Ф. Шестопаловым и К.М. Вертеловым. Эти люди, на плечах которых лежало руководство громадной программой капитального строительства Министерства обороны, отдали много сил реализации и той части этой программы, которая относилась к объектам РКО. Замечательный, без преувеличения великий строитель Константин Михайлович Вертелов поражал своим глубочайшим знанием всех деталей строительства каждого из объектов и умением оперативно и эффективно разрешать бесчисленные трудности.
Вообще хочется отдать дань восхищения военным строителям, начальникам УНР, командирам стройотрядов, прорабам, инженерам, техникам и солдатам. Им приходилось работать в значительно более сложных условиях, чем коллегам по промышленному и городскому жилищному строительству. Глухие и дальние места строительства, отсутствие дорог и прочих коммуникаций, особая специфика требований к инженерной стойкости и инженерному обеспечению зданий и сооружений, необходимость гарантированного электро-, водо- и теплообеспечения и многие другие сложности необходимо было преодолеть им, чтобы создать уникальные технологические сооружения и удобные для жизни города, городки и поселки для военнослужащих и их семей. Честь и хвала этим солдатам строительного фронта.
Экс-директор Московского института теплотехники Юрий Соломонов выпустил книгу, где от третьего лица поведал о своей роли в создания ракетно-ядерного щита и, в частности, о том, почему новая морская ракета "Булава" до сих пор не принята на вооружение.
По сути это его первый после отставки с должности гендиректора МИТ выход в публичное пространство. Интерес к высказываниям и оценкам академика РАН Соломонова высок еще и потому, что он сохраняет за собой позицию генерального конструктора "Булавы". Правда теперь, после выхода 6-тысячным тиражом его книги "Ядерная вертикаль", это становится совсем проблематичным. Не хочу оказаться в роли Кассандры, но такие откровения о положении дел в Военно-промышленном комплексе и, в частности, ракетостроении, об отношениях с минобороны и коллегами-соперниками бесследно не проходят. И уж тем более не остаются без ответа оценки типа "все виноваты, кроме меня".
У тех, кто по долгу службы отвечает за сохранность государственных и военных тайн, претензий к автору, скорее всего не возникнет. На 335 страницах книги вы при всем желании не найдете каких-то специальных выкладок и технических характеристик с цифрами. Их, как и профессиональных терминов, Юрий Соломонов старательно избегает. Вдобавок к этому придумал для себя и некоторых других фигурантов своего повествования более чем прозрачные псевдонимы. А вот президенты России, СССР, США, главы правительства, секретари ЦК и некоторые первые вице-премьеры у него вполне реальные - для каждого времени свои, только по именам никогда не называются.
Для чего понадобились солидному автору все эти окололитературные хитрости? Сам он ничего не объясняет. Лишь брат конструктора Лев Соломонов, работавший под его началом в МИТе и явно посвященный, дал понять, что книга адресована "тем, кто в теме". И написана для того, чтобы мы знали, "кто есть кто в судьбе ракеты, почему сложилась та ситуация, которую мы наблюдаем сейчас".
А сложилась такая ситуация (из 12 испытательных пусков "Булавы" более половины окончились неудачей, в том числе два последних) потому, считает Юрий Соломонов, что ему как генеральному конструктору на разных этажах и кабинетах противостояли косность, волюнтаризм, козни конкурентов, нежелание принимать решения и брать ответственность. И это все - на фоне неуклонного распада и деградации оборонной промышленности.
"Вопрос впрыскивания молодой крови в дряхлеющие кровеносные сосуды оборонно-промышленного комплекса так и остался нерешенным", - сокрушается автор. Или вот еще пассаж - на соседней же странице: "Генерал Балуев, возглавив Генеральный штаб, привнес в его работу совершенно новые элементы, основу которых составлял известный тезис: "Лучший способ принятия решений - не принимать никаких решений".
Зато о себе самом, о своей позиции и манере выступать на совещаниях самого высокого уровня - в Кремле, правительстве, на Совете безопасности, в том числе в присутствии первых лиц государства, отзывается в высшей степени похвально, да еще от третьего лица: "Пресную обстановку рутинного мероприятия попытался чуть подсолить только один выступающий... Аргументированное, порой несколько эмоциональное выступление произвело впечатление на аудиторию... Апогей совещания был уже пройден, когда слово взял Юрий Соломатин... Это и многое другое, излагаемое профессионально и аргументированно, резко контрастировало с благостной картиной общего состояния дел в промышленности...".
А вот как описывает автор самую первую презентацию "Булавы" (еще на уровне проекта) в питерском КБ "Рубин", где должны были увязать ее с носителем - подводной лодкой. "Вы посмотрите, что они предлагают, - передает Соломонов реакцию академика Сергея Ковалева, генерального конструктора ракетоносцев. - Мы всю жизнь бьемся с проблемой защиты нашего "железа" от пагубного воздействия огнедышащего дракона - стартующей ракеты, а они хотят быть настолько деликатными, что, сделав дело, даже не лишают нас девственности. Это же замечательно".
В беседе с корреспондентом "РГ" Сергей Никитич Ковалев чуть иначе представил тут ситуацию, но в целом подтвердил, что поверил тогда Соломонову и поддержал его в том, чтобы начать испытательные пуски ракеты прямо с подводной лодки, минуя всегда практиковавшийся ранее этап испытаний с наземного и погружаемого стендов.
Взявшись за перо, именитый конструктор и начинающий мемуарист не удержался от соблазна воздать "по заслугам" коллегам-конкурентам из Государственного ракетного центра им. Макеева, что находится на Урале в городе Миассе. Именно там, как известно, традиционно разрабатывали и продолжают разрабатывать баллистические ракеты для подводных лодок - с особой спецификой подводного старта. Право на разработку "Булавы", по словам Юрия Соломонова, МИТ выиграл в честной борьбе - по итогам конкурса, который вопреки всем правилам проводился дважды. И оба раза, подчеркивает автор, москвичи одерживали верх. Причем, по "по основной характеристике, определяющей проектно-конструкторское совершенство разработки", опережали конкурента в полтора раза.
Тем временем
Как заявил недавно заместитель министра обороны - начальник вооружения ВС РФ Владимир Поповкин, испытания стратегической ракеты морского базирования "Булава" нынешним летом продолжатся. Причем пуски планируются и с подводной лодки "Дмитрий Донской", которая под эти испытания специально "заточена", и с нового ракетоносца "Юрий Долгорукий" - головного в серии кораблей четвертого поколения, для вооружения которых предназначена "Булава". На Севмаше, где построен "Юрий Долгорукий" и в различной стадии готовности два следующих - серийных - корабля этого же проекта ("Александр Невский" и "Владимир Мономах"), корреспонденту "РГ" подтвердили, что начаты работы и по четвертому корпусу ("Святитель Николай"), хотя дата его официальной закладки до сих пор не определена. По словам генерального директора Севмаша Николая Калистратова, "это исключительная прерогатива ВМФ, а за корабелами дело не встанет".
От редакции
С этого номера мы начинаем публикацию воспоминаний бывшего главного конструктора отдела 520 Уралвагонзавода (УКБТМ), лауреата Государственной премии СССР, кандидата технических наук, генерал-майора инженерно-технической службы Леонида Николаевича Карцева, которому 21 июля 2007 г. исполнилось 85 лет.
Леонид Николаевич занимал должность главного конструктора танкового КБ Уралвагонзавода с 1953 по 15 августа 1969 г. Под его руководством было создано большое количество образцов бронетанковой техники, включая такие прославленные боевые машины как танки Т-54А, Т-54Б, Т-55, Т-55А, Т-62 и Т-62А, получившие мировое признание и известность. Он заложил основы конструкции Т-72, признанного лучшим танком мира второй половины XX века.
Не вызывает сомнений тот факт, что уральская школа танкостроения, созданная в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., окрепшая в трудные послевоенные годы, в наши дни является лидирующей в отечественном и мировом танкостроении. И в этом огромная заслуга Леонида Николаевича Карцева и его преемников.
Редакция выражает глубокую признательность специалистам ФГУП «УКБТМ» и музея Уралвагонзавода за помощь и содействие при подготовке этой публикации и сделанные ими существенные замечания и комментарии, позволившие более полно и объективно показать особенности работы танкового КБ в описываемый период. Здесь необходимо отметить вклад заместителя директора ФГУП «УКБТМ» И. Н. Баранова, ветерана УКБТМ Э.Б. Вавилонского и начальника музейного комплекса Уралвагонзавода А. В. Пислегиной.
Особая благодарность ветеранам ГБТУ П. И. Кириченко, Г. Б. Пастернаку и М.М.Усову, которые работали с Леонидом Николаевичем Карцевым много лет. Без них эти воспоминания вряд ли увидели бы свет.
Вместо пролога
Конструкторское бюро, создавшее танк Т-34, вместе с коллективом Харьковского паровозостроительного завода (ХПЗ) осенью 1941 г. было эвакуировано из Харькова в Нижний Тагил на Уралвагонзавод, где в короткие сроки было организовано и развернуто производство этого знаменитого танка. Вскоре Уралвагонзавод стал основным поставщиком танков. Только за военные годы завод выпустил около 26 тыс. «тридцатьчетверок».
Конструкторское бюро, возглавляемое Александром Александровичем Морозовым, проделало огромную работу по упрощению узлов и механизмов танка, повышению технологичности и снижению массы деталей, приспособлению конструкции танка к массовому производству.
В ходе производства Т-34 непрерывно совершенствовался с учетом замечаний, поступающих из войск. Была увеличена толщина брони башни, ускорено ее вращение, установлен более совершенный прицел, четырехскоростная коробка передач заменена на пятискоростную, увеличена эффективность очистки поступающего в двигатель воздуха, внедрен всережимный регулятор подачи топлива и пр. В начале 1944 г. была проведена крупная модернизация танка: вместо 76-мм орудия установили пушку калибра 85 мм. В результате этой модернизации танк получил наименование Т-34-85.
К концу войны КБ приступило к разработке танка Т-44, ставшего прообразом танка Т-54, который был разработан и запущен в серийное производство уже после окончания войны.
К сожалению, начало серийного производства танка Т-54 показало, что в его конструкции были серьезные недоработки, особенно в аспекте надежности. Из Белорусского военного округа, куда направили первые серийные танки Т-54, посыпались жалобы во все инстанции, вплоть до Политбюро ЦК КПСС.
Для обеспечения полноценной доработки конструкции танка Т-54 Политбюро приняло решение о задержке серийного выпуска этих танков на один год. Весь 1949 г. танковое производство на трех ведущих заводах страны было остановлено.
Одной из основных причин несовершенства конструкции танка Т-54 была малочисленность конструкторского бюро Уралвагонзавода. Дело в том, что после освобождения Харькова в 1943 г. многие специалисты завода им. Коминтерна, эвакуированные в Нижний Тагил, стали возвращаться на родину. В результате и без того небольшое конструкторское бюро стало быстро терять кадры.
В этой обстановке в 1949 г. вышло постановление Совета Министров СССР о прикомандировании к Уралвагонзаводу группы из пятнадцати выпускников инженерных факультетов Военной академии бронетанковых и механизированных войск Советской Армии, в число которых попал и я.
В эту группу включили лучших выпускников. Основную часть составляли офицеры в звании капитанов. Самому молодому из нас было всего 25 лет, самому старшему – 35. Почти все участвовали в Великой Отечественной войне, в основном, на технических должностях. Все бы хорошо, но уже через год в нашей группе осталось только десять человек. Двоим не дали допуска к секретной работе и отправили в войска, где они дослужились: один до генерал-майора, а другой до генерал-полковника. Трое коренных москвичей попали в Нижний Тагил по недоразумению: при распределении им сказали, что КБ, куда они назначаются, находится в Москве, на Садово-Сухаревской улице. На самом деле это был адрес Министерства транспортного машиностроения, которому в то время подчинялся Уралвагонзавод. Поэтому двое из них, не желая покидать столицу, тут же поступили в адъюнктуру при Академии, а третий устроился работать в отдел испытаний Минтрансмаша.
В Нижнем Тагиле
По прибытии в Нижний Тагил большинство из нас были распределены по конструкторским группам КБ и только двое – в исследовательское бюро. Я попал в группу трансмиссии, руководителем которой был один из основных разработчиков трансмиссии танка Т-34, лауреат Сталинской премии Абрам Иосифович Шпайхлер.
Для начала нам всем поручили провести расчеты основных узлов и механизмов танка Т-54, поскольку до нас никто в КБ таких расчетов не делал. Мне достался расчет планетарного механизма поворота танка (ПМП), который я выполнил за две недели. Руководитель группы остался доволен результатом моей работы. Это окрылило меня и, закончив расчеты, я решился подать рацпредложение. Суть его была в том, чтобы уменьшить число сателлитов планетарного ряда. В результате оказались лишними четыре шарикоподшипника, два сателлита, две оси и несколько более мелких деталей, снижалась трудоемкость изготовления ПМП. Экономическая эффективность этого предложения была бесспорной, и оно было принято для испытаний.
В сравнительно короткое время, увлекшись работой, я завершил новую конструкцию сапуна гитары, усиленного привода к генератору, улучшенного уплотнения выключающего механизма ПМП и другие работы по совершенствованию отдельных узлов трансмиссии.