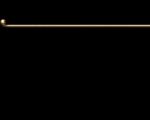Общая социология. Хрестоматия (Сост
n1.doc
социологияХРЕСТОМАТИЯ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Магнитогорск 1999
Социология:
предмет, структура,
методы.
Э.ГИДДЕНС
Социология
Социология: вопросы и проблемы
Социология - дисциплина с удивительно неоднозначной репутацией. У многих она ассоциируется с подстрекательством к восстанию, со стимулом к бунту. Даже если у них весьма смутное представление о предмете социологии, они тем не менее связывают ее с какими-то подрывными действиями, с назойливыми требованиями обросших волосами, воинствующе настроенных студен-тов.| Существует и противоположная, возможно, более распространенная точка зрения в среде тех, кто непосредственно сталкивался с социологией как предметом в школе или университете. Согласно этой точке зрения, социология - скучная и бесполезная дисциплина. Изучающие ее, скорее, умрут от тоски, чем побегут на баррикады. Такая социология отдает академической сухостью, хотя она и не столь точна, как естественные науки, которым пытаются уподоблять социологию представители некоторых ее направлений. С моей точки зрения, те, у кого возникает такая реакция на социологию, во многом, правы. Это связано с тем, что многие социологи - можно даже сказать большинство из них, - облекают самые обычные понятия в псевдонаучную терминологию. Представление о том, что социология относится к естественным наукам и, как следствие, должна неуклонно копировать их процедуры и цели, несомненно ошибочно. Поэтому даже ее незадачливые критики в немалой степени правы, когда скептически относятся к социологическим «достижениям», выражаемым в такой форме.
Я тяготею, скорее, к первой точке зрения, чем ко второй. При этом я совершенно не отождествляю социологию с бездумными нападками на общепринятые нормы поведения, хотя и считаю, что социология с необходимостью носит подрывной характер. С моей точки зрения, подрывной или критический характер социо-
Гидденс Энтони (1938), английский социолог и политолог, сторонник интегрального макро-микроподхода к социальным явлениям.
Логии не подразумевает (или не должен подразумевать), что в интеллектуальном отношении она является чем-то предосудительным. Ведь критический характер социологии определяется как раз тем, что она занимается (во всяком случае должна заниматься) наиболее насущными для нас проблемами, проблемами, лежащими в основе коренных противоречий и конфликтов всего общества.
Независимо от того, нравятся нам или нет протестующие студенты или какие-либо другие радикальные группы, между потребностями, толкающими их на действия, и социологическим пониманием ими проблем общества прослеживаются определенные связи. Социальные потрясения не являются (или являются крайне редко) результатом подстрекательства социологов. Именно социологическое сознание в подлинном смысле слова неизбежно высвечивает те острейшие социальные проблемы, с которыми сталкивается современное общество. Каждый из нас в определенной мере осознает их, однако изучение социологии придает им большую отчетливость в нашем сознании. Таким образом, социология не должна оставаться чисто академической дисциплиной, если под «академичностью» понимаются беспристрастность и безучастность научных знаний, проходящих исключительно в стенах университетов.
Социология не является одной из дисциплин, предлагаемых в подарочной упаковке, открыв которую сразу же доберешься до сущности предмета. Подобно всем общественным наукам, а к ним можно также отнести, в первую очередь, антропологию, экономику и историю, содержание социологии носит внутренне противоречивый характер. Иными словами, социология характеризуется постоянными разногласиями относительно самой ее природы. Однако это не слабость социологии, хотя многие из тех, кто считают себя профессиональными «социологами» именно так и думают. Точно так же, как многие несоциологи обескуражены тем, что существует множество конкурирующих концепций относительно того, как следует подходить к предмету социологии и трактовать его. Многие из тех, кто расстроены постоянными разногласиями между социологами и частым отсутствием единства мнений относительно способов разрешения этих разногласий, обычно считают, что таков признак незрелости науки. Им хотелось бы, чтобы социология была аналогична одной из естественных наук, чтобы она выработала аппарат универсальных законов, подобных тем, которые открываются и подтверждаются естественными науками. Я выдвигаю точку зрения, согласно которой социология не должна точно копировать естественные науки. Более того, «естественная наука» об общест-
Ве практически невозможна. Под этим я не подразумеваю, что методы и задачи естественных наук совершенно неприменимы для изучения социального поведения людей. Предметом социологии являются объективно наблюдаемые факты, социология опирается на эмпирические исследования и имеет целью формулировать теории и делать обобщения на основе эмпирически полученных фактов. Вместе с тем люди и материальные объекты в природе -не одно и то же. Изучение людьми своего собственного социального поведения радикально отличается от изучения природных явлений.
Контекст социологии
Развитие и актуальные проблемы социологии необходимо рассматривать в контексте тех изменений, которые сформировали и продолжают формировать современный мир. Мы живем в мире обширных социальных преобразований.
Последние два столетия отличались особой стремительностью социальных изменений В современном мире их темпы продолжают нарастать. Первоначальным источником изменений была Западная Европа. Впоследствии влияние социальных изменений приобрело глобальный характер. Результатом данного процесса стало то, что в современном мире привычные на протяжении предшествующих тысячелетий формы социальной организации во многом прекратили свое существование. Суть и истоки происшедших преобразований заключаются в двух так называемых «великих революциях»» XVIII - XIX столетий в Евррпе. Первая - Французская революция 1789 г. - представляла "собой ряд исторически специфических событий и стала символом политических преобразований нашей эпохи. Дело в том, что революция эта существенно отличалась от восстаний предшествующих времен. И до нее крестьяне восставали против помещиков-феодалов, однако их выступления, как правило, представляли собой попытки устранить конкретных лиц от власти или же добиться снижения цен и налогов. В период Французской революции (с некоторыми оговорками здесь можно провести аналогию и с антиколониальной революцией 1776 г. в Северной Америке) впервые в истории произошло полное разрушение общественного строя под воздействием социального движения, руководствовавшегося исключительно политическими идеалами всеобщей свободы и равенствa. Несмотря на то что эти идеалы не реализованы до сих пор, они тем не менее создали определенные условия для политических изменений, ставших одним из наиболее динамических процессов современной эпохи. Так,
В мире вряд ли найдется государство (независимо от его фактического устройства), руководители которого не говорили бы о его демократической сущности. В истории человечества потребность в демократических свободах - явление совершенно новое. Конечно, история знала и другие республики, главным образом в Древней Греции и Риме, однако то были редкие случаи. Во всех случаях «свободные граждане» составляли меньшинство населения, в то время как большинством являлись либо рабы, либо другие социальные группы, не обладавшие привилегиями избранных «граждан».
Второй великой революцией стала так называемая «промышленная революция». Началась она во второй половине XVIII века в Англии, распространившись в XIX. веке по всей Западной Европе и в Америке. Промышленную революцию иногда представляют просто как ряд технических достижений, особенно что касается использования энергии пара в промышленности и тех новых машин, которые приводились ею в действие. Однако технические изобретения периода промышленной революции составляли лишь часть гораздо более широкого спектра социально-экономических изменений. Наиболее важным из них стала массовая миграция рабочей силы из сельской местности в расширяющийся сектор промышленного производства. В конечном итоге одним из результатов процесса стала широкая механизация сельскохозяйственного производства.Подсчитано, что до XIX века даже в наиболее высокоурбанизированных обществах в городах проживало не более 10% населения. В других же аграрных государствах и империях процент был гораздо ниже. По современным стандартам даже самые крупные города в доиндустриальиых обществах были относительно малы. Так, подсчитано, что до XIV века население Лондона составляло около 30 000 человек. Население Флоренции в тот же период составляло приблизительно 90 000 человек. К началу XIX века численность населения Лондона уже намного превышала численность населения любого другого известного истории города и составляла около 900 000 человек. Тем не менее в 1800 г. даже при наличии такой густонаселенной метрополии как Лондон, лишь незначительная часть всего населения Англии и Уэльса проживала в городах. 100 лет спустя около 40% жителей Англии и Уэльса проживали в городах с населением 100 и более тысяч человек и около 60% жили в городах с населением 20 000 человек и больше...
Наряду с индустриализацией и урбанизацией, основательно преобразовавшими большинство традиционных форм общества,
Необходимо также отметить и третий, связанный с ними глобальный процесс. Речь идет о невероятно быстром, по сравнению с прошлыми эпохами, росте населения земного шара. Подсчитано, что ко дню Рождества Христова население земного шара должно было составлять без малого 300 миллионов. Это население, хотя и медленно, но постоянно увеличивалось и к началу XVIII века, по всей видимости, удвоилось. С тех пор происходит так называемый «демографический взрыв», о котором слышали практически все.
В то время как последствия такого роста населения для человечества являются предметом многочисленных споров и вполне могут оказаться драматичными, причины, вызвавшие демографический взрыв, более понятны по сравнению с движущими силами развития процессов индустриализации и урбанизации. Они сводятся к тому, что на протяжении большей части человеческой истории сохранялось приблизительное равновесие между уровнями рождаемости и смертности. Несколько упрощая вопрос, можно выделить два основных фактора, лежащие в основе беспрецедентного роста населения. Во-первых, еще 200 лет назад средняя продолжительность жизни равнялась 35 и менее годам. Во-вторых, резко снизился уровень детской смертности. В средневековой Европе и других частях света почти половина детей умирали, не достигнув совершеннолетия. Именно увеличение средней продолжительности жизни и резкое снижение уровня детской смертности, вызванные улучшившимися санитарными условиями, общей гигиеной жизни и полученными средствами борьбы с массовыми инфекционными заболеваниями, и послужили основными причинами беспрецедентного роста населениям
Социология. Определение и некоторые предварительные соображения
Социология возникла в период, когда европейское общество, охваченное изменениями, последовавшими в результате «двух великих революций», стало пытаться осмыслить причины и возможные последствия этих двух революций. Несмотря на то что возникновение любой науки нельзя точно зафиксировать во времени, можно тем не менее проследить прямую связь между идеями социальных философов XVIII века и социальной мыслью последующих периодов. Следует также отметить, что сам идеологический климат в период становления социологии способствовал зарождению двух параллельных революционных процессов.
Какое определение можно дать понятию «социология»? Можно
начать с очевидного. Социология изучает человеческое общество.
Однако понятие общества можно сформулировать только в самом общем смысле. Дело в том, что понятие «обществе» - очень широкая категория, включающая в себя не только промышленно развитые страны, но и такие крупные аграрные империи, как Римская империя и Древний Китай. Под обществом также могут подразумеваться малочисленные племенные группы, состоящие всего из нескольких индивидов.
Общество - совокупность или система институализирован-
ных форм поведения. Под «институализированными» формами социального поведения подразумеваются формы сознания, и дей ствий, которые повторяются или, выражаясь языком современной социальной теории, воспроизводятся обществом в длительной пространственно-временной перспеетиве. Язык - хороший пример одной из таких форм институализированной деятельности или института, поскольку он лежит в основе всей социальной жизни Мы все говорим на том или ином языке. Хотя языком мы и пользу емся творчески, сами мы его не создавали. Существуют и другие аспекты социальной жизни, которые могут быть институализирова-ны, т.е. становятся общепринятой практикой, сохраняющейся в основном в неизменной форме на протяжении ряда поколений. Так, мы говорим об экономических институтах, политических институ тах. При этом употребление понятия «институт» отличается от его обыденного употребления в английском языке в качестве синонима понятия «учреждение» типа тюрьмы или больницы. Все вышесказанное помогает лучше понять смысл слова «общество», хотя полностью и не исчерпывает его содержания.
Общество является предметом изучения не только социоло
гии, но и других общественных наук. Отличительная черта социо
логии в том, что ее в первую очередь интересуют те формы обще
ственного устройства, которые возникли в результате «двух вели
ких революций». Такие формы общественного устройства включа
ют в
себя как промышленно развитые страны Запада, Японию и
страны Восточной Европы, так и ряд видоизменившихся в XX веке
общественно-экономических формаций в других частях земного
шара. Социальные системы всех этих стран в той или иной мере
ощутили на себе последствия «двух великих революций».
Что "касается так называемых «развитых» обществ, то их нельзя
рассматривать в изоляции от форм социального устройства других
стран мира или же от обществ, им предшествовавших.
К сожалению, подобный «изоляционизм» до сих пор характерен
для современных социологов.
B свете вышесказанного можно предложить следующее определение социологии. Социология - общественная наука, предметом изучения которой являются социальные институты, возникшие в результате промышленных преобразований за последние 200 - 300 лет.
Между социологией и другими общественными науками не существуют и не могут существовать жестко установленные барьеры. Ряд вопросов социальной теории, касающихся проблем концептуализации человеческого поведения в обществе и социальных институтов, являются общим предметом изучения для всех общественных наук. Различные «сферы» человеческого поведения, изучаемые отдельными общественными науками, представляют собой «интеллектуальное» разделение труда, существование которого весьма условно. Так, антропология, к примеру, изучает в основном ««более примитивные формы общества», а именно: племенные, клановые, аграрные. Однако под воздействием глубочайших социальных изменений, которые претерпело человечество, такие формы социальной организации либо полностью исчезли, либо находятся в процессе адаптации к условиям современных промышленных государств. Предметом экономики является производство и распределение материальных благ. Однако экономические институты всегда тесно связаны с другими социальными институтами. Последние оказывают на экономические институты определенное влияние и сами подвержены влиянию экономических институтов. Наконец, история как наука, изучающая события постоянно удаляющегося прошлого, является источником данных для всего комплекса общественных наук...
Социологическое воображение: социология как критика
Одна из мыслей, которую я привожу в данной книге, заключается в том, что социолог - по меткому выражению Чарлза Райта Миллса - должен обладать «социологическим воображением». Этот термин настолько часто цитируется, что рискует стать общим местом, к тому же сам Миллс употреблял его в весьма расплывчатом смысле. Что касается меня, то я вкладываю в него совершенно определенное содержание. Под «социологическим воображением» я подразумеваю определенные взаимосвязанные формы восприятия действительности как неотъемлемые составляющие социологического анализа в том виде, в каком я его себе представляю. Понимание социального мира, возникшего как следствие формирования современного промышленного общества западных стран, может быть достигнуто лишь при наличии у индивида «трехмерного»
воображения. Три аспекта такого социологического воображения представляют собой историческое, антропологическое и критическое восприятие социальной действительности.
Человеческие существа, в генетическом отношении идентичные нам, по всей видимости существуют около 100 000 лет. Археологические данные свидетельствуют о том, что «цивилизации», основывающиеся на оседлом сельском хозяйстве, существуют не более 8 000 лет. Это очень длительный период по сравнению с очень коротким отрезком современной истории развития промышленного капитализма. Среди историков нет единого мнения относительно точного времени возникновения западного капитализма как ведущего способа экономической деятельности. Однако трудно найти убедительные аргументы в пользу того, что капиталистический способ производства возник в Европе ранее XV или XVI веков. Промышленный капитализм - как результат соединения капиталистической предприимчивости с машинным производством в рамках отдельных предприятий - возник не раньше второй половины XVIII века в некоторых районах Великобритании. За последние 100 лет промышленный капитализм распространился по всему миру и привел к социальным изменениям, по своему масштабу и радикальности неизвестным всей предыдущей истории человечества. Западные страны приняли на себя первый удар. Современные поколения считают вполне естественным, что окружающее их общество ориентировано на постоянные технологические инновации, что большинство населения проживает в городах, работает в производственной сфере и является «гражданами» национальных государств. Однако столь привычный нам социальный мир, возникший столь стремительно и драматично в очень короткий период, на самом деле является уникальным событием во всей истории человечества.
Первое усилие социологического воображения аналитика со-временных типов индустриального общества должно быть направлено на осмысление нашего совсем недавнего прошлого - «мира, который мы потеряли». Лишь благодаря сознательному интеллектуальному усилию, основывающемуся на исторических фактах, мы можем понять, насколько образ жизни людей современных индустриальных обществ отличается от образа жизни людей в обществе относительно недавнего прошлого. Такое понимание, естественно, должно опираться на объективные факты, подобные тем, которые я приводил выше, обсуждая процесс урбанизации. Однако этого мало. Необходимо также пытаться восстановить в сознании содержание тех форм социальной жизни, которые в настоящее время
Практически не существуют. При этом между ремеслом социолога и искусством историка не будет никакого различия. В английском обществе XVII века, начавшем испытывать на себе первые воздействия промышленной революции, продолжали сохранять влияние обычаи местных общин, чья жизнь регулировалась канонами религии. Это было общество, остаточные явления которого можно наблюдать и в Англии XX века, однако его отличия от общества современной Англии поистине разительны. Организации, столь привычные в настоящее время, существовали не более, чем в своих рудиментарных формах. Достаточно сказать, что не только фабрики и учреждения, но и школы, колледжи, больницы и тюрьмы получили широкое распространение лишь в XIX веке...
Изменения в формах социальной жизни в значительной степени носили материальный характер... Современная технология создала вещи, которые в доиндустриальную эру человек не мог себе даже представить. Это, к примеру, фотоаппарат, автомобиль, самолет, всевозможные электронные изделия, начиная с радио и кончая быстродействующим компьютером, атомная электростанция и многое другое... Изменения в образе жизни человека, вызванные резко увеличившимся количеством и ассортиментом изделий и услуг, можно сравнить разве что с изменениями, последовавшими за открытием огня. Можно сказать, что по своему материальному окружению англичанин, живший в 1750 г., был ближе к легионерам Юлия Цезаря, чем к собственным правнукам.
Беспрецедентный масштаб и повсеместность технических новшеств несомненно являются одной из отличительных черт современного индустриального общества. С процессом технологических инноваций тесно связан процесс вырождения традиций, являвшихся основой повседневной жизни сельской общины и сохранявших свое влияние в докапиталистическую эпоху даже в городах. Традиции прошлого воплощались в настоящем, отражая восприятие времени, отличное от восприятия времени в современных западных обществах. В сознании человека день не подразделялся на «рабочее время» и «свободное время» так жестко, как это происходит сегодня. Ни в пространственном, ни во временном отношениях «работа» так жестко не отграничивалась от других занятий.
Ранее речь шла о том, что в основе преобразований обществ Западной Европы лежали две великие революции. Второй из них была политическая революция, результатом которой стало возникновение национальных государств. В формировании современного мира этот феномен играет такую же важную роль, как и процесс
Индустриализации обществ. Жители западных стран воспринимают как нечто само собой разумеющееся то, что они являются «гражданами» отдельных государств. При этом все прекрасно понимают, какую важную роль в их жизни играет государство (централизованное правительство и местная администрация). Между тем, утверждение гражданских прав и, в частности, всеобщего избирательного права - явление относительно, недавнего прошлого. То же самое, можно сказать и о национализме как чувстве принадлежности к определенной национальной общности, отличной от
Других. Гражданские права и национальное сознание стали харак- терными чертами «внутренней» организации национальных государств, однако в равной степени важны и отношения между нацио-
Нальными государствами. Эти отношения являются фундаментальной отличительной чертой современной эпохи.
Современная мировая система не имеет аналогов в истории человечества. Каждая из «двух великих революций» приобрела глобальные масштабы. Промышленный капитализм основывается на чрезвычайно сложной специализации производства, на разделении труда, при котором отношения обмена охватили весь мир...
если первое измерение социологического воображения предполагает развитое историческое сознание, то второе подразумевает глубокую антропологическую проницательность. Говорить об этом опять-таки означает подчеркивать условность общепризнанных границ между различными общественными науками. Культивирование исторического понимания того, насколько новы и драматичны социальные преобразования последних двух столетий, -дело непростое. Однако, по всей видимости, еще сложнее избавиться от явного или подспудного убеждения в том, что образ жизни, получивший распространение на Западе, в чем-то превосходит образ жизни других культур. Такое убеждение обусловлено распространением западного капитализма, повлекшим за собой притеснение и уничтожение большинства других культур, с которыми капитализм вступал во взаимодействие. Идеи социального превосходства получили свое дальнейшее конкретное воплощение и в работах многих социальных мыслителей, пытавшихся втиснуть
Историю человеческого общества в схемы социальной эволюции, где в качестве критерия «эволюции» имеется в виду способность различных типов общества контролировать или подчинять себе окружающий их материальный мир. В таких схемах западный индустриализм неизменно занимает главенствующее положение, по-
Скольку несомненно обеспечивает уровень материального произ-
13
12
водства, намного превосходящий уровни производства всех известных истории общественно-экономических формаций]
Социологическое воображение призвано развенчать этноцен-тризм подобных эволюционных схем. Этноцентризм представляет собой концепцию, в которой в качестве критерия оценки всех других обществ и культур используется точка зрения данного конкретного общества. Нет никаких сомнений в том, что подобное отношение глубоко укоренено в западной культуре. Характерно оно и для других обществ. Однако на Западе убеждение в собственном превосходстве является выражением и оправданием жадного поглощения индустриальным капитализмом других форм жизни. Следует четко понимать, что было бы ошибкой отождествлять экономическую и военную мощь западных стран, позволившую им занять ведущие позиции в мире, с вершиной эволюционного развития общества. Столь ярко проявляющаяся на Западе оценка уровня развития общества исключительно на основе критерия материального производства сама по себе представляет собой аномальное явление, если сравнивать ее с установками других культур.
Антропологическое измерение социологического воображения позволяет осознать то многообразие форм организации человеческой жизни, которые имели место на нашей планете. Ирония современной эпохи проявляется в том, что систематическое изучение разнообразия человеческой культуры - «полевая работа антропологии» - впервые стало проводиться как раз в то время, когда всепоглощающее расширение промышленного капитализма и усиление военной мощи западных государств активно способствовали уничтожению этого разнооб-
Соединение первого и второго аспектов социологического воображения освобождает нас из прокрустова ложа мышления исключительно с точки зрения того типа общества, которое мы непосредственно знаем. Каждый из этих двух аспектов тесно связан с третьей сторо-
а ной социологического воображения, на которой я вкратце остановлюсь. Она касается возможностей развития. Критикуя представления о том, что социология подобна естественным наукам, я подчеркнул, что социальные процессы не управляются неизменными законами. Как индивиды, мы не обречены на пассивное подчинение силам, действующим с непреложностью законов природы. Это означает, что мы должны быть готовы рассматривать альтернативные варианты будущего, потенциально открытые для нас. В своем третьем смысле социологическое воображение тождественно задаче социологии спо собствовать критике существующих форм общества.
Гидденс Э. Социология//Социс. - 1994.-Ма 2.-С. 129-138.
П.А. СОРОКИН
ГРАНИЦЫ И ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИИ.
[Определить область социологии как и любой науки - это значит выделить тот разряд фактов, который является объектом её изучения или, иными словами, установить особую точку зрения на ряд явлений, отличную от точек зрения других наук.
Как бы разнообразны ни были те определения, посредством которых социологи характеризуют сущность социального или на-дорганического явления, - все они имеют нечто общее, а именно, что социальное, явление - объект социологии -есть прежде всего взаимодействие тех или иных центров или взаимодействие, обладающее специфическими признаками. Принцип взаимодействия лежит в основе всех этих определений, все они в этом пункте согласны и различия наступают уже в дальнейшем - в определении характера и форм этого взаимодействия.
Наиболее популярное и распространённое определение социологии, как науки об организации и эволюции общества по самому своему характеру уже предполагает категорию взаимодействия, ибо общество немыслимо вне взаимодействия составляющих его
Вне взаимодействия нет и не может быть никакого агрегата, ассоциации и общества и, вообще, социального явления, так как там не было бы никаких отношений...
Раз утверждаемся, что взаимодействие тех или иных единиц составляет сущность социального явления, а тем самым объект социологии, то для полного уяснения, этого понятия требуется ещё ответ, по меньшей мере, на следующие вопросы:
1 Для того чтобы процесс взаимодействия можно было считать социальным явлением, между кем или чем должно происходить это взаимодействие? Каковы единицы или центры этого взаимодействия? Иначе говоря, каковы специфические свойства социального взаимодействия, позволяющие считать его особым разрядом явлений?
Сорокин Питирим Александрович (1889-1968) русско-американский социолог, разработчик концепции «интегральной» социологии.
2) Если так или иначе решен этот вопрос, то спрашивается дальше, безразлична или нет длительность этого взаимодействия для понятия социального явления? Предполагается ли, что только в длительном и постоянном взаимодействии можно видеть социальное явление, или же оно возникает при всяком взаимодействии, как бы кратковременно и случайно оно ни было?
Без точных ответов на эти вопросы, в особенности же на первую категорию их, понятие «взаимодействия» (а тем самым и социального явления) становится пустым звуком и вот почему Как известно, процесс взаимодействия не есть процесс, специфически свойственный какому-либо определённому разряду явлений, а процесс общемировой, свойственный всем видам энергии и обнаруживающийся хотя бы в виде «закона тяготения» или закона «равенства действия противодействию». Поэтому понятно, что(раз взаимодействие хотят сделать специальным объектом социальной науки, то необходимо указать такие специфические признаки (differentia specifica) этого общемирового и, в этом смысле, родового процесса, которые отделяли бы этот вид взаимодействия от остальных его видов и тем самым конституировали бы социальное явление как особый вид мирового бытия, а поэтому и как объект особой науки..
Социология есть наука, изучающая наиболее общие свойства психического взаимодействия тех или иных единиц, в их структурной организации и в их временной эволюции.
1) Это положение основывается прежде всего на том принципе, что там, где дано несколько видов одного и того же рода, там должна быть дана и наука, изучающая общеродовые свойства данного разряда явлений. Здесь вполне применима теорема Л.И. Петражицкого, гласящая: «Если есть п видов сродных предметов, то теоретических наук, вообще теорий, должно быть п+1». Растения и животные - это два вида, принадлежащие к общему роду организмов; наряду с их специфическими свойствами они имеют общие свойства. Изучение этих общих свойств и составляет задачу общей биологии. То же приложимо и к социальным явлениям.
Различные явления социальной жизни, будучи правильно подразделены и классифицированы, образуют собою виды общеродового психического взаимодействия и, как таковые, должны обла-
Дать и известными общими свойствами, изучение которых и является первой задачей общей социологии,
2) Далее нет надобности доказывать, что социология как наука индуктивная неразрывна от частных наук, анализирующих мельчайшие факты социального взаимодействия, и только от них и через них она получает данные для формулировки своих обобщений и в этом смысле она может быть названа соrpus"ом социальных наук.
Что такая наука действительно необходима, это вытекает из следующего. Различные разряды социальных явлений, изучае-мые отдельными науками, например, экономика, религия, этика, эстетика и т.д., в действительной жизни не отделены друг от друга, а неразрывно связаны и постоянно влияют одни на других «Заработная плата рабочих, например, зависит не только от отношений между спросом и предложением, но и от известных моральных идей. Она падает и подымается в зависимости от наших представлений о минимуме благополучия, которое может требовать для себя человеческое существо, т.е. в конце концов от наших представлений о человеческой личности»...
Поэтому, если экономист ограничился бы только экономиче-О скими явлениями, игнорируя не экономические, то вместо законов, формулирующих действительные отношения экономических явле- ний, он дал бы лишь воображаемые законы, не способные совер- шенно объяснить подлинные экономические процессы. А раз это так, то ему волей-неволей приходится быть уже не только специа- листом-экономистом, но и социологом, координирующим отноше- ния основных форм социальной жизни. То же mutatis mutandis применимо и ко всякой специальности. Сознательное и планомерное установление и формулировка этих отношений между различными разрядами социальных явлений составляют вторую задачу социологии.
3) Мало того, уже само выделение определённой стороны со- циального бытия, например, религиозной, в качестве особого объ- екта, из общего комплекса социальных явлений предполагает на- личность общего понятия социальных явлений, их основную классификацию, черты сходства и различия между членами этой классификации с выделяемым членом (например, религией) и т.д. Без этих логических предпосылок невозможно само выделение, определение и изучение отдельного вида психологического взаимодействия. Ибо в противном случае получится не научная разработка определённого разряда фактов, а бессистемное изучение
17
16
случайного скопления различных явлений. Значит, уже каждый спе-
Циалист есть всегда и социолог и должен им быть. И если социологии
Бросают упрёк в дилентантизме ввиду того, что невозможно-де охва-
Тить все стороны социального психологического бытия, то тот же упрёк
С тем же правом можно бросить и каждому специалисту, ибо и специа-
Лист явно или тайно неизбежно должен быть социологом Различие
Здесь будет лишь в том, что в первом случае, т.е. когда специалист не
Учитывает этого факта, его «социология» в большинстве случаев бу-
Дет плохой социологией ввиду некритического отношения его к общей сфере социальных явлений, а потому неизбежно будут или «хромым»
Или «прыгающим» и само определение объекта его науки и все построения, касающиеся этого объекта...
4) Вообще же говоря, положение социологии по отношению к частным дисциплинам буквально то же самое, что положение общей биологии по отношению к анатомии, физиологии, морфологии, эм- бриологии, патологии растений и животных; положение физики - к акустике, электрологии, учению о тяжести, теплоте и т.д.; положение хи- мии по отношению к неорганической, органической химии и т.д. По-
Этому тот, кто вздумал бы говорить, что социологии как единой науки
нет и не может быть, а есть только социальные науки, тот должен был
бы доказать, что нет физики - как единой науки, нет химии и биологии,
так же как единых наук, а есть только акустика, электрология, учение
о тяжести, учение о свете, теплоте и т.д. !
5) Наконец, вместо того чтобы спорить «быть или не быть социо- логии», следует обратиться к фактам и спросить себя: сделала ли со- циология хоть что-нибудь научно-продуктивно^ за своё недолгое су- ществование, что фактически давало бы ей право на самобытие? Стоит так поставить вопрос и ответ получится довольно определён- ный:принципы социальной дифференциации и её основные законы, закон постепенного роста солидарных кругов и расширения идеи «ближнего», закон ускоряющегося темпа социального прогресса, закон социальной инерции Die Treue («закон запаздывания»), законы «социальной непрерывности и социальной наследственности», законы, определяющие влияние числа на характер группы и т.д. и т.п. - все " эти, как и множество других более или менее точных теорем, были выдвинуты и разрешены социологами. В настоящее время они стали основами почти любого сколько-нибудь значительного социального исследования. Стоит далее вспомнить ту весьма продуктивную транс- формацию, которую испытали и испытывают отдельные дисциплины при социологической трактовке вопроса.
Социология в России Х1Х-начала XX веков. Тексты / Под ред. В.И. Добренькова. - М., 1997. -С. 55-57; 77*80.
Р. пэнто, м. гравитц
РАЗЛИЧНЫЕ ОТРАСЛИ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
ХРЕСТОМАТИЯ ПО ИСТОРИИ СОЦИОЛОГИИ
РОС МГИМО
- Структурный функционализм
1.2. Парсонс.
1.3. Мертон (разное).
- Конликтологическая парадигма.
2.2. Энгельс.
2.3. Дарендорф.
3. Парадигма социального действия.
3.1. Вебер (разное).
4. Символический интеракционизм.
4.1. Мид (разное).
4.2. Кули.
4.3. Блумер.
5. Феноменология.
5.1. Шютц.
5.2. Бергер и Лукман.
6. Интегрализм.
6.1. Сорокин.
6.2. Бурдье.
6.3. Гидденс.
^ СТРУКТУРНЫЙ ФУНКЦИОНАЛИЗМЭ. Дюркгейм
О РАЗДЕЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРУДА
Какие причины вызывают прогресс разделения труда?
Дело, конечно, не в том, чтобы найти единую формулу, которая объяснила бы все возможные разновидности разделения груда. Такой формулы не существует. Каждый частный случай зависит от частных причин, которые могут быть определены только специальным исследованием. Задача, поставленная нами, менее масштабна. Если пренебречь разнообразными формами, которые принимает разделение труда в соответствии с обстоятельствами места и времени, то остается тот общий факт, что оно постоянно развивается вместе с историческим развитием. Этот факт зависит, несомненно, от столь же постоянных причин, к исследованию которых мы и приступим.
Конечно, дело не может заключаться в том, что заранее представляют себе следствия, которые производит разделение труда, способствуя поддержанию равновесия обществ. Эти следствия слишком отдаленны, что бы быть понятыми всеми; большинство не имеет о них никакого представления. Во всяком случае, они могли стать заметными только тогда, когда разделение труда продвинулось уже очень далеко.
Согласно наиболее распространенной теории, причина разделения труда коренится исключительно в непрерывно растущем стремлении к счастью, присущем человеку. Известно, в самом деле, что чем больше разделяется труд, тем выше его производительность. Представляемые им в наше распоряжение ресурсы становятся изобильнее и лучшею качества. Наука развивается лучше и быстрее, произведения искусства - многочисленнее и утонченнее, промышленность производит больше и продукты ее совершеннее. Но человек испытывает потребность во всех этих вещах; он, по-видимому, должен быть тем счастливее, чем больше он их имеет, и, естественно, он старается их приобрести.
Предположив это, легко объяснить постоянство, с которым прогрессирует разделение труда. Достаточно, говорят, чтобы стечение обстоятельств, которое легко себе вообразить, дало людям знать о некоторых его преимуществах; тогда они сами будут стремиться постоянно развивать его как можно шире с целью извлечь из него всю возможную пользу. Оно, стало быть, прогрессирует под влиянием исключительно индивидуальных, психологических причин. Чтобы создать теорию разделения труда, не обязательно наблюдать общества и их структуру: достаточно простейшего и основного инстинкта человеческой природы, чтобы объяснить это разделение. Именно потребность в счастье заставляет индивида все более специализироваться. Конечно, посколькувсякаяспециализацияпредполагает одновременное присутствие многих индивидов н их сотрудничество, она невозможна без общества. Но общество, вместо того чтобы быть определяющей причиной ее, является только средством, благодаря которому она осуществляется; только материалом, необходимым для организации разделенного труда. Оно скорее даже следствие этого явления, нежели причина его. Разве не повторяют беспрестанно, что именно потребность в кооперации дала начало обществам? Значит, последние образовались для того, чтобы труд мог разделиться, а не труд разделился благодаря социальным основаниям?
Это классическое объяснение в политической экономии. Оно, кроме того, кажется столь простым и очевидным, что допускается бессознательно массой мыслителей, подрывая их концепцию. Вот почему прежде всего необходимо его исследовать.
Нет ничего более бездоказательною, чем мнимая аксиома, на которой основывается это объяснение.
Невозможно указать никакой рациональной границы производительной силе труда. Несомненно, она зависит от состояния техники, капиталов и т. д. Но, как доказывает опыт, эти препятствия всегда носят временный характер, и каждое поколение отодвигает границу, на которой остановилось предыдущее. Даже если бы она когда-нибудь дотла до максимума, которого не могла бы превзойти (а это совершенно необоснованное предположение), то по крайней мере за собой она имеет необъятное поле развития. Если, стало быть, счастье, как это полагают, постоянно увеличивается вместе с ней, то нужно допустить, что оно также способно увеличиваться безгранично или по крайней мере что прирост, на который оно способно, пропорционален приросту производительной силы труда. Если оно увеличивается по мере тою, как приятные возбуждения становятся все многочисленней и интенсивней, то вполне естественно, что человек старается производить больше, чтобы больше наслаждаться. Но в действительности наша способность к счастью весьма ограниченна.
В самом деле, теперь общепринята истина, что удовольствие не сопровождает ни слишком интенсивные, ни слишком слабые состояния сознания. Если функциональная деятельность недостаточна, то возникает страдание; но чрезмерная деятельность производит то же действие. Некоторые физиологи думают даже, что страдание связано со слишком сильной вибрацией нервов. Удовольствие, стало быть, лежит между этими двумя крайностями. Это положение, впрочем, следует из закона Вебера и Фехнера. Если точность математической формулы,в которойпредставилиего экспериментаторы, сомнительна, то, во всяком случае, они поставили вне сомнения, что изменения интенсивности, которые может проходить ощущение, заключены между двумя пределами. Если раздражение слишком слабо, оно не чувствуется, но если оно переходит известную границу, то получаемый им прирост производит все меньшее воздействие, пока совсем не перестает ощущаться. Но этот закон верен также относительно того рода ощущений, который называется удовольствием. Он даже был сформулирован применительно к удовольствию и страданию задолго до того, как был применен к другим элементам ощущения. Бернулли применил его к сложным ощущениям, а Лаплас, толкуя его в том же смысле, придал ему форму отношения между физическим счастьем и моральным. Значит, поле изменений, которые может проходить интенсивность удовольствия, ограниченно.
Но это не все. Если состояния сознания, интенсивность которых умеренна, обычно приятны, то не все они представляют одинаково благоприятные условия для создания удовольствия. Около низшего порога те изменения, через которые проходит приятная деятельность, слишком малы по абсолютной величине, чтобы вызвать ощущения удовольствия большой энергии. Наоборот, когда она приближается к пункту безразличия, т. е. к своему максимуму, то величины, на которые она прирастает, относительно слишком малы. Человек, имеющий небольшой капитал, не может легко увеличить его в размерах, которые могут заметно изменить его положение. Вот почему первые сбережения приносят с собой так мало радости: они слишком малы, чтобы улучшить положение. Незначительные доставляемые ими преимущества не вознаграждают лишений, которых они стоили. Точно так же человек, богатство которого громадно, находит удовольствие только в исключительно крупных барышах, ибо он измеряет их значение по тому, чем уже обладает. Не то мы видим в случае среднего богатства. Здесь и абсолютная, и относительная величина изменений находятся в лучших для возникновенияудовольствияусловиях,ибоонилегко приобретают важное значение, и при этом для того, чтобы высоко оцениваться, они не должны быть огромными. Начальная точка, служащая для их измерения, еще недостаточно высока, чтобы сильно обесценивать их. Интенсивность приятного возбуждения может, таким образом, с пользой увеличиваться только в пределах, еще более тесных, чем мы это вначале сказали, так как свое действие оно производит только в промежутке, соответствующем средней области приятной деятельности. По ту и по эту сторону удовольствие также существует, но оно не связано с порождающей ею причиной, между тем как в этой умеренной зоне малейшие колебания оцениваются и ощущаются. Ничто не теряется из энергии раздражения, которая и превращается целиком в удовольствие.
То, что мы сказали об интенсивности каждого возбуждения, можно повторить об их числе. Они перестают быть приятными, когда их слишком много или слишком мало, точно так, как и тогда, когда они переходят или не достигают известной степени интенсивности. Не без основания человеческий опыт в aurea mediocrilаs видит условие счастья.
Итак, если бы разделение труда прогрессировало только для приращения нашего счастья, то оно бы давно уже пришло к своему крайнему пределу имеете с основанной на нем цивилизацией и оба остановились бы. Чтобы человек оказался в состоянии вести то скромное существование, которое наиболее благоприятно для удовольствия, не было нужды в бесконечном накоплении всяческих возбуждений. Достаточно было бы умеренного развития, чтобы обеспечить индивидам всю сумму наслаждений, на которую они способны. Человечество быстро пришло бы к неподвижному состоянию, из которого оно бы уже не вышло. Это и случилось с животными: большая часть их не изменяется уже веками, потому что они пришли к этому состоянию равновесия.
Другие соображения также приводят к тому же заключению.
Нельзя утверждать абсолютно дocтoвернo, что всякое приятное состояние полезно, что удовольствие и польза всегда изменяются в одном и том же направлении и отношении. Однако организм, который вообще находил бы удовольствие во вредных для себя вещах, не мог бы, очевидно, существовать. Значит, можно принять как весьма общую истину, что удовольствие не связано с вредными состояниями, т. е. что в общих чертах счастье совпадает с состоянием здоровья. Только существа, пораженные каким-нибудь физиологическимили психологическим извращением, находят удовольствие в болезненных состояниях. Но здоровье состоит в усредненной деятельности. Оно предполагает гармоническое развитие всех функций, а функции могут развиваться гармонически только при условии взаимного умеряющего действия, т. е. взаимного удерживания в известных границах, за которыми начинается болезнь и прекращается удовольствие. Что касается одновременного приращения всех способностей, то оно возможно для данного существа только в ограниченной мере, обозначенной природой индивида.
Понятно, таким образом, что ограничивает человеческое счастье: это само устройство человека в определенный исторический момент. Его темперамент, степень достигнутого им физического и морального развития определяют тот факт, что существует максимум счастья, как и максимум деятельности, которые он не может переступить. Положение это не оспаривается, пока речь идет об организме: всякий знает, что телесные потребности ограниченны и что, следовательно, физическое удовольствие не может безгранично увеличиваться. Но утверждают, что духовные функции составляют исключение. "Нет такого страдания, которое могло бы покарать и подавить... самые энергичные порывы самопожертвования и милосердия, страстноеивосторженноеисследованиеистинногои прекрасного. Голод удовлетворяют определенным количеством пищи;разумневозможноудовлетворить определенным количеством знания".
Это значит забывать, что сознание, как и организм, представляет собой систему уравновешенных функций и что, кроме того, оно связано с органическим субстратом, от состояния которого оно зависит. Говорят, что если есть известная степень света, которую глаз не в состоянии переносить, то для разума не бывает никогда слишком сильного света. Однако излишнее количество знания может быть приобретено только благодаря чрезмерному развитию высших нервных центров, которое, в свою очередь, не может происходить без болезненных потрясений. Значит, есть максимальная граница, которую невозможно перейти безнаказанно, и поскольку она изменяется со средней величиной мозга, то она была особенно низка в начале человеческой истории; следовательно, она должна была бы быть скоро достигнута. Кроме того, ум - только одна из наших способностей. Значит, за известными пределами он может развиваться только в ущерб практическим способностям, нарушая чувства, верования, привычки, которыми мы живем, а такое нарушение равновесия не может быть безболезненным. Последователи даже грубейшей религии находят в своих зачаточных космогонических и философских представлениях удовольствие, которое мы отняли бы у них без достаточного вознаграждения, если бы нам удалось внезапно пропитать их нашими научными теориями, как бы неоспоримо ни было превосходство последних. В каждый исторический момент в сознании каждого индивида для ясных идей, для обдуманных мнений - словом, для знания - существует определенное место, вне которого оно не может распространяться в нормальном состоянии.
Так же и с нравственностью. Каждый народ имеет свою нравственность, определяемую условиями, в которых он живет. Невозможно поэтому навязывать ему другую нравственность -как бы высока она ни была, - не дезорганизуя его; а такие потрясения не могут не ощущаться болезненно отдельными людьми. Но разве нравственность каждого общества, взятая сама по себе, не допускает безграничного развития предписываемых ею добродетелей? Никоим образом. Поступать морально - значит исполнять свой долг, а всякий долг конечен. Он ограничен другими обязанностями, невозможно жертвовать собой ради других, не забывая самого себя; невозможно безгранично развивать свою личность, не впадая в эгоизм. С другой стороны, совокупность наших обязанностей сама по себе ограничена другими потребностями нашей природы. Если необходимо, чтобы известные формы поведения были подчинены действенной регламентации, характеризующейнравственность, то существуют, наоборот, другие, которые естественно противятся этому и которые, однако, имеют существенное значение. Нравственность не может повелевать сверх меры промышленными, торговыми и тому подобными функциями, не парализуя их, а они, между тем, имеют жизненное значение. Так, считать богатство безнравственным - не менее гибельная ошибка, чем видеть в нем благо по преимуществу. Итак, могут быть нравственные излишества, от которых, впрочем, нравственность первая же и страдает, ибо, имея непосредственной целью регулирование нашей здешней жизни, она не может отвратить нас от нее, не истощая того предмета, к которому она применяется.
Правда, эстетико-моральная деятельность, поскольку она не регулируется, кажется свободной от всякой узды и всякого ограничения. Но в действительности она тесно ограничена деятельностью собственно моральной, ибо она не может преступать известной меры, не вредя нравственности. Если мы тратим много сил на излишнее, то их не остается для необходимого. Когда в нравственности отводят слишком много места воображению, то неизбежно пренебрегают обязательными задачами. Всякая дисциплина кажется нестерпимой,когда привыкли действовать исключительно по тем правилам, которые себе создают сами. Избыток идеализма и моральной возвышенности часто приводит к тому, что человек не имеет склонности исполнять свои повседневные обязанности.
То же можно сказать о всякой эстетической деятельности вообще; она здорова, пока умеренна. Потребность играть, действовать без цели, просто из удовольствия, не может быть развита далее известных границ без забвения серьезной стороны жизни. Слишком сильная художественная чувствительность представляет собой болезненное явление, которое не может стать всеобщим, не угрожая обществу. Впрочем, граница, за которой начинается излишество, изменяется в зависимости от народа или социальной среды; она начинается тем раньше, чем менее продвинулось вперед общество или чем менее культурна среда. Земледелец, если он находится в гармонии с условиями своего существования, недоступен (и должен быть таковым) дня эстетических удовольствий, которые естественны для образованного человека. Точно в таком же отношении стоит дикарь к цивилизованному человеку.
Если так обстоит дело с духовной роскошью, то тем более верно это относительно материальной роскоши. Существует, следовательно, нормальнаяинтенсивность всех наших потребностей - интеллектуальных, моральных, физических, пределы которой невозможно преступить. В любой исторический момент наша жажда знания, искусства, благосостояния ограничена так же, как и наш аппетит, и все, что переходит эту границу, оставляет нас равнодушными или заставляет страдать. Вот что часто забывают, когда сравнивают счастье наших отцов с нашим. Рассуждают так, как будто все наши удовольствия могли быть их удовольствиями; тогда, размышляя о всех тех утонченностях цивилизации, которыми мы пользуемся и которых они не знали, испытывают склонность сожалеть об их участи. Забывают только, что они не были способны наслаждаться ими. Значит, если они так маялись ради увеличения производительной силы труда, то не для того, чтобы овладеть благами, которые не имели для них ценности. Чтобы оценивать их, им нужно было бы сначала усвоить вкусы и привычки, которых у них не было, т. е. изменить свою природу.
Это они действительно сделали, как показывает история преобразований, через которые прошло человечество. Чтобы потребность в большем счастье могла объяснить развитие разделения труда, нужно было бы, чтобы она была также причинойизменений, поступательно происходившихв человеческой природе, нужно было бы, чтобы люди изменились с целью стать более счастливыми.
Но, предполагая даже, что эти преобразования имели в конечном счете такой результат, невозможно предположить, чтобы они производились с таким именно намерением. Следовательно, они зависят от другой причины.
Действительно, изменение существования, и внезапное, и подготовленное, всегда составляет болезненный кризис, ибо оно насилует устойчивые инстинкты и вызывает их сопротивление. Все прошлое тянет нас назад даже тогда, когда прекраснейшие перспективы влекут вперед. Всегда трудно вырвать с корнем привычки, которые укрепило и организовало в нас время. Возможно, что оседлая жизнь предоставляет больше шансов на счастье, чем кочевая; но когда в течение веков ведут только последнюю, то нелегко от нее избавиться. К тому же, как бы незначительны ни были такие преобразования, для их исполнения недостаточно индивидуальной жизни. Недостаточно одного поколения, чтобы разрушить дело ряда поколений, чтобы на место прежнего человека поставить нового. При теперешнем состоянии наших обществ труд не только полезен - он необходим; все это хорошо знают, и необходимость эта давно уже чувствуется. Однако еще относительно малочисленны те, кто находит удовольствие в упорном и постоянном труде. Для большинства людей это все еще невыносимая повинность; праздность первобытных времен не потеряла еще для нас всей прежней прелести. Значит, эти метаморфозы очень долго обходятся дорого, ничего не давая. Поколения, вводящие их, не пожинают плодов (если только они имеются), потому что они появляются слишком поздно. Этим поколениям остается только труд, потраченный на них. Следовательно, не ожидание большего счастья вовлекает их в такие предприятия.
Но правда ли, что счастье индивида возрастает по мере того, как он прогрессирует? Нет ничего более сомнительного.
Конечно, есть много удовольствий, которые теперь нам доступны и которых не знают более простые существа. Но зато мы подвержены многим страданиям, от которых они избавлены, и нельзя быть уверенным, что баланс складывается в нашу пользу. Мысль, без сомнения, является источником радостей, которые могут быть весьма сильными; но в то же время сколько радостей нарушает она! На одну решенную задачу сколько поднятых и оставшихся без ответов вопросов! На одно разрешенное сомнение сколько смущающих нас тайн! Точно так же, если дикарь не знает удовольствий, доставляемых активной жизнью, то зато он не подвержен скуке, этому мучению культурных людей. Он предоставляет спокойно течь своей жизни, не испытывая постоянной потребности торопливо наполнять ее слишком короткие мгновения многочисленными и неотложными делами. Не будем забывать, кроме того, что для большинства людей труд является до сих пор наказанием и бременем.
Нам возразят, что у цивилизованных народов жизнь разнообразнее и что разнообразие необходимо для удовольствия. Но цивилизация вместе с большей подвижностью вносит и большее однообразие, ибо она навязала человеку монотонный, непрерывный труд. Дикарь переходит от одного занятия к другому сообразно побуждающим его потребностями обстоятельствам; цивилизованный человек целиком отдается всегда одному и тому же занятию, которое предоставляет тем менее разнообразия, чем оно ограниченнее. Организация необходимо предполагает абсолютную регулярность в привычках, ибо изменение в способе функционирования органа не может иметь места, не затрагивая всего организма. С этой сторонынаша жизньоставляетменьшеместа для непредвиденного и в то же время благодаря своей большей неустойчивости она отнимает у наслаждения часть безопасности, в которой оно нуждается.
Правда, наша нервная система, став более тонкой, доступна слабым возбуждениям, не затрагивавшим наших предков, у которых она была весьма груба. Но в то же время многие возбуждения, бывшие прежде приятными, стали слишком сильными и, следовательно, болезненными для нас. Если мы чувствительны к большему количеству удовольствий, то так же обстоит дело и со страданиями. С другой стороны, если верно, что, как правило, страдание производит в организме большее потрясение, чем удовольствие7, что неприятное возбуждение доставляет нам больше страдания, чем приятное - наслаждения, тоэтабольшаячувствительностьмогла быскорее препятствовать счастью, чем благоприятствовать ему. Действительно, весьма утонченные нервные системы живут в страдании и в конце концов даже привязываются к нему. Не примечательно ли, что основной культ самых цивилизованных религий - это культ человеческого страдания? Несомненно, для продолжения жизни теперь, как и прежде, необходимо, чтобы в среднем удовольствия преобладали над страданиями. Но нельзя утверждать, что это преобладание стало значительней.
Наконец, и это особенно важно, не доказано, чтобы этот излишек вообще служил когда-нибудь мерой счастья. Конечно, в этих темных и еще плохо изученных вопросах ничего нельзя утверждать наверняка; представляется, однако, что счастье и сумма удовольствий - не одно и то же. Это - общее и постоянное состояние, сопровождающее регулярную деятельность всех наших органических и психических функций. Такие непрерывные виды деятельности, как дыханиеили циркуляция крови, не доставляют положительных наслаждений; однако от них главным образом зависит наше хорошее расположение духа и настроение. Всякое удовольствие - своего рода кризис: оно рождается, длится какой-то момент и умирает; жизнь же, наоборот, непрерывна. То, что составляет ее основную прелесть, должно быть непрерывно, как и она. Удовольствие локально: это - аффект, ограниченный какой-нибудь точкой организмаили сознания; жизнь не находится ни здесь, ни там: она повсюду. Наша привязанность к ней должна, значит, зависеть от столь же общей причины. Словом, счастье выражает не мгновенное состояние какой-нибудь частной функции, но здоровье физической и моральной жизни в целом. Посколькуудовольствиесопровождаетнормальное осуществление перемежающихся функций, то оно, конечно, элемент счастья, тем более важный, чем более места в жизни занимают эти функции. Но оно не счастье; даже уровень его оно может изменять только в ограниченных пределах, ибо оно зависит от мимолетных причин, счастье же - нечто постоянное. Для того чтобы локальные ощущения могли глубоко затронуть это основание нашей чувственной сферы, нужно, чтобы они повторялись с исключительной частотой и постоянством. Чаще всего, наоборот, удовольствие зависит от счастья: сообразно с тем, счастливы мы или нет, все улыбается нам или печалит нас. Не зря было сказано, что мы носим наше счастье в самих себе.
Но если это так, то незачем задаваться вопросом, возрастает ли счастье с цивилизацией. Счастье - указатель состояния здоровья. Но здоровье какого-нибудь вида не полнее оттого, что вид этот высшего типа. Здоровое млекопитающее не чувствует себя лучше, чем столь же здоровое одноклеточное. Так же должно быть и со счастьем. Оно не становится больше там, где деятельность богаче; оно одинаково повсюду, где она здорова. Самое простое и самое сложное существа наслаждаются одинаковым счастьем, если они одинаково реализуют свою природу. Нормальный дикарь может быть так же счастлив, как и нормальный цивилизованный человек.
Поэтому дикари столь же довольны своей судьбой, как мы - своей. Это полное довольство является даже одной из отличительных черт их характера. Они не желают более того, что имеют, и не имеют никакого желания изменить свое положение. "Житель Севера, - говорит Вайц, - не стремится к Югу для улучшения своего положения, а житель теплой и нездоровой страны не думает покинуть ее ради благоприятного климата. Несмотря на многочисленные болезни и всяческие бедствия, которым подвержен обитатель Дарфура, он любит свое отечество и не хочет эмигрировать из него, но рвется домой, если он на чужбине... Вообще, какова бы ни была материальная нищета, в которой живет народ, он не перестает считать свою страну лучшей в мире, свой образ жизни - самым богатым наслаждениям, а на себя он смотрит как на первый народ на свете. Это убеждение, по-видимому, господствует у всех негрских народов. Точно так же в странах, которые, подобно многим областям Америки, эксплуатировались европейцами, туземцы твердо уверены, что белые оставили свою страну только для того, чтобы искать счастья в Америке. Приводят примеры молодых дикарей, которых болезненное беспокойство погнало из дому в поисках счастья; но это весьма редкие исключения".
Правда, наблюдатели иногда рисовали нам жизнь низших обществ в совсем другом виде, но только потому, что они приняли свои собственные впечатления за впечатления дикарей. Однако существование, кажущееся нам невыносимым, может быть приятным для людей другого физического и морального склада. Что такое, например, смерть, когда с детства привык рисковать жизнью на каждом шагу и, следовательно, ставить ее ни во что? Чтобы заставить нас сожалеть об участи первобытных народов, недостаточно указать, что там скверно соблюдается гигиена, что не обеспечена безопасность. Только индивид компетентен в оценке своего счастья: он счастлив, если чувствует себя таким. Но "от обитателя Огненной Земли до готтентота человек в естественном состоянии живет довольный собой и своей участью". Как редко это довольство в Европе! Эти факты объясняют, почему один опытный человек мог сказать: "Бывают положения, когда мыслящий человек чувствует себя ниже того, кого воспитала одна природа, когда он себя спрашивает, стоят ли его самые твердые убеждения больше, чем узкие, но милые сердцу предрассудки".
Но вот более объективное доказательство. Единственный опытный факт, доказывающий, что жизнь вообще хороша, - это то, что громадное большинство людей предпочитает ее смерти. Для этого необходимо, чтобы в среднем счастье брало верх над несчастьем. Если бы отношение было обратным, то непонятно было бы, откуда появляется привязанность людей к жизни, а особенно как она может продолжаться, постоянно разрушаемая фактами. Правда, пессимисты объясняют это явление иллюзиями надежды. По их мнению, если мы, несмотря на разочарования опыта, еще держимся за жизнь, то потому, что мы ошибочно надеемся, будто будущее выкупит прошедшее. Но даже если допустить, что надежда достаточно объясняет любовь к жизни, она не объясняется сама собой. Она не свалилась чудом с неба, но, как и всякое чувство, должна была образоваться под действием фактов. Значит, если люди научились надеяться, если под ударами несчастья они привыкли обращать свои взоры к будущему и ожидать от него вознаграждения за их теперешние страдания, то потому, что они заметили, что эти вознаграждения часты, что человеческий организм слишком гибок и вынослив, чтобы быть легко сраженным, что моменты, когда одолевало несчастье, были редкиичтовообщевконцеконцов равновесие восстанавливалось. Следовательно, какова бы ни была роль надежды в генезисе инстинкта самосохранения, этот последний представляет убедительное свидетельство относительной ценности жизни. На этом же основании там, где он утрачивает свою энергию или свою распространенность, можно быть уверенным, что жизнь сама теряет свою прелесть, что зло увеличивается, потому ли, что умножаются причины страдания, или потому, что уменьшается сила сопротивления индивидов. Если бы, таким образом, мы обладали объективным и доступным измерению фактом, выражающим изменения интенсивности этого чувства в различных обществах, то мы могли бы вместе с тем измерять изменения среднего несчастья в тех же обществах. Этот факт - число самоубийств. Подобно тому как редкость добровольных смертей в первобытных обществах - лучшее доказательство могущества и универсальности инстинкта самосохранения, факт увеличения их количества доказывает, что он теряет почву.
Самоубийство появляется только с цивилизацией. Оно очень редко в низших обществах; по крайней мере единственный вид его, который в них постоянно наблюдают, содержит особые черты, делающие из него специфический тип, имеющий другое значение. Это акт не отчаяния, а самоотречения. Если у древних датчан, кельтов, фракийцев старик, доживший до престарелого возраста, кончал с собой, то потому, что его долг - освободить своих сотоварищей от бесполезного рта. Если вдова индуса не переживает своего мужа, а галл - вождя клана, если буддист бросается под колеса колесницы, везущей его идола, то потому, что моральные или религиозные предписания принуждают их к этому. Во всех этих случаях человек убивает себя не потому, что он считает жизнь дурной, но потому, что идеал его требует этой жертвы. Эти случаи добровольной смерти в такой же мере могут считаться самоубийствами в обычном смысле слова, как смерть солдата или медика, которые сознательно подвергают себя гибели, чтобы исполнить свой долг.
Наоборот, настоящее самоубийство,самоубийство печальное, находится в эндемическом состоянии у цивилизованных народов. Оно распределяется даже географически, как и цивилизация. На картах самоубийств видно, что вся центральная область Европы занята обширным мрачным пятном, которое расположено между 47 и 57 градусами широты и между 20 и 40 градусами долготы. Это излюбленное место самоубийства; по выражению Морзелли, это суицидогенная зона Европы. Именно здесь находятся страны, где научная, художественная, экономическая деятельность достигли максимума; это Германия и Франция. Наоборот, Испания, Португалия, Россия, южнославянские народы относительно не затронуты. Италия, возникшая недавно, еще несколько защищена, но она теряет свой иммунитет по мере того, как прогрессирует. Одна Англия составляет исключение; но мы еще мало знаем о точной степени ее готовности к самоубийству. Внутри каждой страны мы констатируем ту же связь. Повсюду самоубийство свирепствует в городах сильнее, чем в деревнях. Цивилизация концентрируется в больших городах; самоубийство тоже. В нем даже видели иногда своего рода заразную болезнь, имеющую очагом распространения столицы и крупные города, откуда они распространяются по всей стране. Наконец, во всей Европе, исключая Норвегию, число самоубийств постоянно возрастает в течение целого века. По одному вычислению оно увеличилось втрое с 1821 по 1880 г. Ход цивилизации не может быть измерен с той же точностью, но известно, каким быстрым он был за это время.
Можно было бы увеличить число доказательств. Различные классы населения доставляют для самоубийства контингент пропорционально степени их цивилизованности. Повсюду свободные профессии поражены более других, а земледелие наиболее пощажено. То же самое и с полами. Женщина менее, чем мужчина, втянута в движение цивилизации; она меньше участвует в нем и извлекает из него меньше выгоды. Она более напоминает некоторые черты первобытных натур, поэтому она убивает себя вчетверо реже мужчины.
Но, возразят нам, если восходящее движение самоубийств указывает, что несчастье прогрессирует в некоторых пунктах, то не возможно ли, что в то же время счастье увеличивается в других? В этом случае положительное приращение, может быть, могло бы возместить нехватки в другом месте. Так, в некоторых обществах число бедняков увеличивается. Оно концентрируется только в меньшем числе рук.
Но эта гипотеза мало применима к нашей цивилизации. Ибо, предполагая, что существует подобное возмещение, из этого можно было бы вывести только то, что среднее счастье осталось почти неизменным, или же если оно увеличилось, то на весьма незначительную величину, которая, не будучи пропорциональна величине усилия, затраченного на прогресс, не могла бы объяснить его. Но и сама гипотеза не имеет основания.
Действительно, когда говорят об обществе, что оно более или менее счастливо по сравнению с другим, то говорят о среднем счастье, т. е. о том, которым наслаждаются члены этого общества в среднем. Так как они находятся в одинаковых условиях существования, поскольку подвержены действию одной и той же социальной и физической среды, то непременно существует известныйобщий для нихспособсуществованияи, следовательно, общий способ быть счастливым. Если из индивидуального счастья вычесть все то, что происходит от индивидуальных и местных причин, и оставить только продукт общих причин, то полученный таким образом остаток составляет именно то, что мы называем средним счастьем. Это, следовательно, величина абстрактная, но абсолютно единственная, не могущая изменяться в двух противоположных направлениях одновременно. Она может возрастать или уменьшаться, но невозможно, чтобы она одновременно и возрастала и уменьшалась. Она имеет то же единство и ту же реальность, что средний тип общества, средний человек Кетле, ибо она представляет счастье, которым, как считается, пользуется это идеальное существо. Следовательно, подобно тому как он не может одновременно стать большим и меньшим, более нравственным и менее нравственным, он не может также в одно время стать и счастливее и несчастнее.
Но причины, от которых зависит увеличение числа самоубийств у цивилизованных народов, имеют некоторые общие черты. Действительно, самоубийства не происходят в отдельных местах, в некоторых частях общества, обходя другие; их наблюдают повсюду. В одних странах восходящее их движение быстрее, в других - медленнее, но оно существует повсюду без исключения. Земледельческие области менее подвержены самоубийству, чем промышленные, но доставляемый ими контингент все возрастает. Мы, стало быть, имеем дело с явлением, связанным не с какими-то местными и особыми обстоятельствами, но с общим состоянием социальной среды. Это состояниепо-разномуотражаетсяотдельнымисредами (провинции, профессии, религиозные исповедания и т. д.); поэтому его действие не везде даст себя знать с одинаковой интенсивностью; но природа его от этого не изменяется.
Это значит, что счастье,орегрессе которого свидетельствует развитие самоубийств, есть среднее счастье. Возрастающее число добровольных смертейне только доказывает, что имеется большое число индивидов, слишком несчастных, чтобы выносить жизнь, - это ничего бы не говорило о других, составляющих, однако, большинство, - но что общее счастье общества уменьшается. Следовательно, так как это счастье не может увеличиваться и уменьшаться одновременно, то увеличение его невозможно, раз увеличиваются самоубийства; другими словами, дефицит, существование которого они обнаруживают, не возмещается ничем. Причины, от которых они зависят, только часть своей энергии расходуют в форме самоубийств; оказываемое ими влияние гораздо обширнее. Там, где они не приводят человека к самоубийству, подавляя окончательно счастье, там они по меньшей мере сокращают в различных пропорциях нормальный избыток удовольствий над страданиями. Конечно, благодаря особой комбинации обстоятельств, может случиться, что в известных случаях их действие нейтрализуется, делая даже возможным приращение счастья; но эти случайные и частные изменения не влияют на социальное счастье. Какой статистик, впрочем, не увидит в росте общей смертности в определенном обществе признаки ослабления общественного здоровья?
Значит ли это, что нужно приписать самому прогрессу и составляющему его условие разделению труда эти грустные результаты? Это обескураживающее заключение не вытекает с необходимостью из предыдущих фактов. Наоборот, весьма вероятно, что оба эти разряда фактов просто сопутствуют друг другу. Но это сопутствие достаточно доказывает, что прогресс не особенно увеличивает наше счастье, так как последнее уменьшается - и даже в весьма серьезных размерах - в то самое время, когда разделение труда развивается с неведомой до сих пор энергией и быстротой. Если нет основания допускать, что оно уменьшило нашу способность к наслаждению, то тем более невозможно думать, что оно увеличило ее.
В конечном счете все, что мы сказали, есть только частное применение той общей истины, что удовольствие, как и страдание, явление главным образом относительное. Нет абсолютного, определяемого объективно счастья, к которому люди приближаются по мере того, как прогрессируют. Но, подобно тому как, по словам Паскаля, счастье мужчины не то же, что счастье женщины, счастье низших обществ не может быть нашим, и наоборот. Однако одно не больше другого. Относительную интенсивность его можно измерять только той силой, с которой оно привязывает нас к жизни вообще и нашему образу жизни в частности. Но самые первобытные народы столь же привязаны к существованию, и в частности к своему, как мы к своему. Они даже менее легко отказываются от него. Итак, но никакого пропорционального отношения между изменением счастья и прогрессом разделения труда.
Это положение весьма важно. Из него следует, что для объяснения превращений, испытанных обществами, не нужно выяснять, какое влияние они оказывают на счастье людей, так как не это влияние вызвало их. Социальная наука должна решительно отказаться от тех утилитарных сравнений, которыми она слишком часто пользовалась. Кроме того, такие соображения по необходимости субъективны, ибо всякий раз, когда сравнивают удовольствия или интересы, то за неимением объективного критерия невозможно не бросить на весы свои собственные мнения и вкусы и не выдавать за научную истину то, что является только личным чувством. Это принцип, который уже Конт сформулировал весьма ясно. "По существу, относительный дух, - говорит он, - в котором необходимо трактовать любые понятия положительной политики, должен сначала заставить нас удалить, как тщетное и пустое, метафизическое рассуждение о приращении человеческого счастья в различные эпохи цивилизации... Так как счастье каждого требует достаточной гармонии между совокупностью развития различных его способностей и особой системой обстоятельств, управляющих его жизнью, и так как, с другой стороны, такое равновесие постоянно и самопроизвольно стремится к некоторой степени, то невозможно, говоря об индивидуальном счастье, сравнить положительно каким-нибудь непосредственным чувством или рациональным путем социальные ситуации, полное приближение к которым абсолютно невозможно".
Ножеланиестатьсчастливее-единственный индивидуальный двигатель, могущий объяснить прогресс; по удалении его не остается другого. На каком основании индивид сам по себе станет вызывать изменения, постоянно требующие от него усилий, если он не извлекает из них большего счастья? Следовательно, определяющие причины социальной эволюции находятся вне его, т. е. в окружающей его среде. Если и он и общества изменяются, то потому, что изменяется эта среда. С другой стороны, так как физическая среда относительно постоянна, то она не может объяснить этот непрерывный ряд изменений. Поэтому исходные условия надо искать в социальной среде. Происходящие в ней изменения вызывают те, через проходят общества и индивиды. Таково методологическое правило, которое мы будем иметь случай применить и подтвердить в дальнейшем.
Однако можно было бы спросить, не вызывают ли некоторыеизменения, которым подвергается удовольствие (всилу уже самого факта длительности его существования), и самопроизвольные изменения в человеке и нельзя ли объяснить таким образом прогресс разделения труда? Вот как можно было бы представить это объяснение.
Если удовольствие не есть счастье, то, во всяком случае, оно элемент его. Но оно теряет свою интенсивность от повторения; если же оно становится непрерывным, то совершенно исчезает. Время может нарушить равновесие, которое стремится установиться, и создать новые условия существования, к которым человек может приспособиться, только изменяясь. По мере того как мы привыкаем к известному счастью, оно убегает от нас, и мы вынуждены пуститься в новые поиски, чтобы его обнаружить. Нам нужно оживить это потухающее удовольствие более энергичными возбуждениями, т. е. умножить или сделать интенсивнее те, которыми мы располагаем. Но это возможно только тогда, когда труд становится более производительным и, следовательно, более разделенным. Таким образом, всякий прогресс, осуществленный в науке, в искусстве, в промышленности, вынуждает нас к новому прогрессу для того только, чтобы не потерять плоды предыдущего. Значит, можнообъяснить развитие разделения труда игрою чистоиндивидуальных факторов, не вводя никакой социальной причины. Словом, если мы специализируемся, то не для приобретения новых удовольствий, но чтобы возместить разрушающее влияние, оказываемое временем на приобретенные удовольствия.
Но как бы реальны ни были эти изменения удовольствия, они не могут играть той роли, которую им приписывают. Действительно, они происходят повсюду, где есть удовольствие, т.е. повсюду, где имеются люди. Нет общества, к которому не приложимэтот психологический закон, но есть такие общества, в которыхразделение труда не прогрессирует. Мы видели действительно, что весьма большое число первобытных народов живет внеподвижном состоянии, из которого они даже недумают выйти. Они не стремятся ни к чему новому. Однако их счастье подчинено общему закону. Точно так же обстоит дело с деревней у цивилизованных народов. Разделение труда прогрессирует тут очень медленно и склонность к изменениям весьма слаба. Наконец, внутри одного и того же общества разделение труда развивается более или менее быстро в разные эпохи; влияние же времени на удовольствие всегда одно и то же. Значит, не оно вызывает развитие.
Действительно, непонятно, как бы оно могло иметь такой результат. Невозможно восстановить равновесие, уничтоженное временем, и удержать счастье на постоянном уровне без усилий, тем более тягостных, чем более мы приближаемся к высшему пределу удовольствия; ибо в области, близкой к максимальному пункту, приращения, получаемые удовольствием, все ниже и ниже приращений соответствующего раздражения. Нужно больше работать за то же вознаграждение. Что выигрывают с одной стороны, то теряют - с другой, и избегают потери только путем новых издержек. Следовательно, чтобы эта операция была выгодна, нужно по крайней мере, чтобы потеря эта. была важна, а потребность возместить ее - очень сильна.
Но в действительности она имеет только весьма посредственную энергию, так как повторение не отнимает ничего существенного у удовольствия. Не надо, в самом деле, смешивать прелесть разнообразия с прелестью новизны. Первое -необходимое условие удовольствия, так как непрерывное наслаждение исчезает или превращается в страдание. Но время само по себе ire уничтожает разнообразия; необходима к этому еще непрерывность. Состояние, повторяющееся часто, но с перерывами, может оставаться приятным, ибо если непрерывность разрушает удовольствие, то или потому, что она делает его бессознательным, или потому, что выполнение всякой функции требует издержек, которые, продолжаясь непрерывно, истощают организм и становятся болезненными. Значит, если действие, будучи привычным, повторяется только через достаточно большие промежутки времени, оно все-таки будет ощущаться, и произведенные расходы смогут быть возмещены за это время. Вот почему здоровый взрослый человек всегда испытывает одинаковое удовольствие, когда пьет, ест, спит, хотя он это делает каждый день. То же происходит и с духовными потребностями, которые так же периодичны, как и психические функции, которым они соответствуют. Удовольствия, доставляемые нам музыкой, искусством, наукой, сохраняются в целостности, лишь бы они чередовались.
Если непрерывность и может нечто, чего не может повторение, то она все же не внушает нам потребности в новых и непредвиденных возбуждениях. Ибо если онацеликом уничтожает сознание приятного состояния, то мы не можем заметить, что удовольствие, которое было связано с последним, также одновременно исчезло; оно, кроме того, заменяется тем общим ощущением благополучия, которое сопровождает регулярное выполнение функций, непрерывных в нормальном состоянии, и которое имеет не меньшую цену. Поэтому мы ни о чем не сожалеем. Кто из нас имел когда-либо желание чувствовать биение своего сердца или функционирование легких? Если же, наоборот, имеется страдание, то мы просто стремимся к состоянию, которое отличается от причиняющего нам боль. Но, чтобы прекратить это страдание, нет необходимости в особых ухищрениях. Известный предмет, к которому мы обыкновенно равнодушны, может в этом случае причинить нам большое удовольствие, если он составляет контраст с тем, что вызывает в нас страдание. Следовательно, в способе, каким время затрагивает основной элемент удовольствия, нет ничего, что могло бы побудить нас к какому-нибудь прогрессу. Правда, не так обстоит дело с новизной, привлекательность которой непродолжительна. Но если она и доставляет больше свежести удовольствию, то она не создает его. Это только второстепенное и преходящее качество, без которого оно может отлично существовать, хотя рискует быть тогда менее приятным. Поэтому, когда новизна исчезает, происходящая от этого пустота не слишком чувствительна, а потребность ее заполнить не очень интенсивна.
Интенсивность ее уменьшает еще то, что она нейтрализуется противоположным, более сильным и более укоренившимся в нас чувством, а именно - потребностью устойчивости в наших наслаждениях и регулярности в наших удовольствиях. Мы любим перемену, но и то же время привязываемся к тому, что любим, и не можем без боли расстаться с ним. Кроме того, это необходимо для поддержания жизни, ибо если она невозможна без перемены, если гибкость ее увеличивается вместе со сложностью, то прежде всего, однако, она представляет собой целую систему устойчивых и регулярных функций. Есть, правда, индивиды, у которых потребность новизны достигает исключительной интенсивности. Ничто из существующего не удовлетворяет их; они жаждут невозможных вещей; они хотели бы установить новую действительность на месте имеющейся. Но эти неисправимые недовольные - больные, и патологический характер этого случая только подтверждает сказанное нами.
Наконец, не нужно терять из виду, что эта потребность по природе своей весьма неопределенна. Она нас не привязывает ни к чему определенному, так как это потребность в чем-то, чего нет. Она, стало быть, только наполовину сформирована; ибо полная потребность включает два элемента: напряжение воли и определенный объект. Поскольку объект не дан извне, то он не может иметь другой действительности, кроме приданной ему воображением. Этот процесс - наполовину из области представлений. Он состоит, скорее, в комбинациях образов, в своего рода внутренней поэзии, чем в действительном движении воли. Он нас не заставляет выйти из самих себя; он только внутреннее возбуждение, которое ищет путь наружу, но еще не нашло его. Мы мечтаем о новых ощущениях, но это -неопределенное стремление, исчезающее, не найдя воплощения. Следовательно, даже там, где оно наиболее энергично, оно не может иметь силы твердых и определенных потребностей, которые, постоянно устремляя волю в одном и том же направлении и по проложенным путям, стимулируют ее тем повелительнее, чем менее оставляют места колебаниям, обсуждениям.
Невозможно допустить, что прогресс - это только следствие скуки. Эта периодическая и в чем-то непрерывная переплавка человеческой природы была делом трудным, осуществлявшимся в муках. Невозможно, чтобы человечество вынесло столько страданий единственно с целью иметь возможность несколько разнообразить свои удовольствия и сохранить их первоначальную свежесть.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Теперь мы можем разрешить практическую задачу, которую мы перед собой поставили в начале этого труда.
Если есть правило поведения, моральный характер которого неоспорим, так это то, которое повелевает нам осуществить в себе существенные черты коллективного типа. Оно достигает максимальной строгости в низших обществах. Там первая обязанность - это походить на всех, не иметь ничего личного ни в верованиях, ни в обычаях. В более развитых обществах требуемые сходства менее многочисленны; однако, как мы видели, и здесь есть такие сходства, отсутствие которых представляет собой моральный проступок. Преступление здесь имеет, без сомнения, меньшее число различных категорий; но теперь, как и прежде, если преступник - предмет осуждения, то потому, что он не подобен нам. Точно так же на низшей ступени просто безнравственные и запрещенные поступки суть те, которые свидетельствуют о несходствах менее глубоких, хотя и также серьезных. Впрочем, разве - не то же самое правило выражает общепринятая нравственность, хотя и несколько иным языком, когда она повелевает человеку быть человеком в полном смысле слова, т. е. иметь все идеи и чувства, составляющие человеческое сознание? Конечно, если понимать эту формулу буквально, то человек, которым она нам предписывает быть, это человек вообще, а не человек такого-то и такого-то социального типа. Но в действительности это человеческое сознание, которое мы должны полностью осуществить в себе, есть не что иное, как коллективное сознание группы, к которой мы принадлежим. Из чего, в самом деле, может оно состоять, как не из идей и чувств, к которым мы более всего привязаны? Где будем мы искать черты нашей модели, как не в нас и вокруг нас? Если мы думаем, что этот коллективный идеал есть идеал всего человечества, то это потому, что он стал довольно общим и абстрактным, чтобы оказаться подходящим ко всем людям без различия. Но на деле каждый народ создает себе из этого так называемою человеческою типа частное представление, зависящее от его собственного темперамента. Каждый представляет его себе по своему образу. Даже моралист, воображающий, что он в состоянии силой мысли избавиться от влияния окружающих идей, не сможет достигнуть этого, ибо он проникнут ими насквозь, и, что бы он ни делал,: именно их он найдет в результате своих дедукций. Вот почему всякий народ имеет свою школу моральной философии, зависящую от его характера.
С другой стороны, мы показали, что это правило имеет функцией предупредить всякое потрясение общего сознания и, следовательно, социальной солидарности и что оно может исполнить эту роль только тогда, когда оно обладает- моральным характером. Если оскорбления наиболее фундаментальных коллективных чувств будут терпимы, то общество неизбежно подвергнется дезинтеграции; необходимо, чтобы с ними боролись посредством той особенно энергичной реакции, которая связана с моральными правилами.
Нообратноеправило,повелевающеенам специализироваться, имеет ту же самую функцию. Оно также необходимо для сплоченности обществ, по крайней мере начиная с известного момента их эволюции. Без сомнения, обусловленная им солидарность отличается от предыдущей; но если она и иная, то все же не менее необходимая. Высшие общества могут удерживаться в состоянии равновесия, только если труд в них разделен; притяжения подобною подобным все менее достаточно для достижения этого результата. Если, стало быть, моральный характер для первою из этих правил необходим, чтобы оно могло играть свою роль, то он не менее необходим и для второго. Оба они отвечают одной и той же социальной потребности и различаются только способом удовлетворения ее, потому что самые условия существования обществ тоже различны. Следовательно, не вдаваясь в спекулятивные соображения о первооснове этики, мы можем заключить о моральной ценности одного по ценности другого. Если с некоторых точек зрения между ними существует настоящий антагонизм, то не потому, что они служат различным целям, но потому, наоборот, что они ведут к одной цели, но противоположнымипутями. Следовательно, нет необходимости ни выбирать между ними раз навсегда, ни осуждать одно во имя другого; нужно в каждый исторический момент уделять каждому подобающее ему место.
Вероятно, можно позволить себе дальнейшее обобщение.
Предмет нашего исследования заставил нас классифицировать моральные правила и обозреть главные их виды. Благодаря этому мы теперь в состоянии составить себе представление или, по крайней мере, строить предположение не только о внешнем признаке моральных правил, но и о внутренней черте, общей всем им и могущей служить для их определения. Мы разделили их на два рода: правила с репрессивной санкцией - как диффузивной, так и организованной - и правила с реститутивной санкцией. Мы видели, что первые выражают условия той солидарности sui generis, которая вытекает из сходств и которой мы дали название механической; вторые выражают условия отрицательной и органической солидарности. Мы можем, таким образом, сказать вообще, что характерная черта моральных правил заключается в том, что они выражают основные условия социальной солидарности. Право и нравственность - это совокупность уз, привязывающих нас друг к другу и к обществу, создающих из массы индивидов единый связный агрегат. Морально, можно сказать, все то, что служит источником солидарности, все, что заставляет человека считаться сдругими,регулироватьсвоидвижениянетолько эгоистическими побуждениями. И нравственность тем прочнее, чем сильнее и многочисленнее эти узы. Неточно, очевидно, определять се (как это часто делали) через свободу; она состоит скорее в состоянии зависимости. Она не только не служит освобождению индивида, выделению его из окружающей среды, но, наоборот, имеет существенной функцией сделать из него неотъемлемую часть целого и, следовательно, отнять у него кое-что из свободы его действий.
Иногда встречаются, правда,умы, не лишенные благородства, которые, однако, находят нестерпимой мысль об этой зависимости. Но они не замечают источников, откуда вытекает их собственная нравственность, так как эти источники слишком глубоки. Сознание - плохой судья того, что происходит в глубине бытия, потому что оно туда не проникает.
Общество, стало быть, не чуждый, как часто думали, нравственности или же имеющий на нее только второстепенное влияние фактор. Наоборот, оно - необходимое условие ее. Ононепростая сумма индивидов, которые приносят, вступая в него, какую-то внутреннюю нравственность; человек моральное существо только потому, что он живет в обществе, ибо нравственность состоит в том, чтобы быть солидарным с группой, и она изменяется вместе с этой солидарностью. Пусть исчезнет социальная жизнь, и тотчас же, не имея точки опоры, исчезнет жизнь моральная. Естественное состояние у философов XVIII в. если не безнравственно, то, по меньшей мере, не нравственно; это признавал еще сам Руссо. Впрочем, мы вследствие этого не возвращаемся к формуле, которая выражает нравственность как функцию общественной пользы. Общество, без сомнения, не может существовать, если части его несолидарны; но солидарность - только одно из условий его существования. Есть много других, которые не менее необходимы и неморальны. Кроме того, может случиться, что в этой сети уз, составляющих нравственность, есть такие, которые неполезны или имеют силу, непропорциональную степени их полезности. Таким образом, понятие полезного не входит в качестве существенного элемента в наше определение.
Что касается того, что называется индивидуальной нравственностью, то, если под этим понимать совокупность обязанностей, одновременно субъектом и объектом которых был бы индивид, обязанностей, которые связывали бы его только с самим собой и которые, следовательно, существовали бы даже тогда, когда он был бы, один, - это абстрактная концепция, не соответствующая ничему в действительности. Нравственность во всех своих степенях встречается только в общественном состоянии и изменяется только как функция социальных условий. Спрашивать себя, чем бы она могла быть, если бы общество не существовало, значило бы выйти из области фактов и вступить в область неосновательных гипотез и фантазий, которые невозможно проверить. Обязанности индивида по отношению к самому себе суть в действительности обязанности по отношению к обществу; они соответствуют известным коллективным чувствам, которые не позволено более оскорблять, составляют ли оскорбитель и оскорбленный одно или два различных лица. Теперь; например, во всех здоровых сознаниях существует очень живое чувство уважения человеческому достоинству, чувство, с которым мы должны сообразовывать наше поведение как в наших отношениях с самим собой, так и в отношениях с другими; и этом и заключается вся сущность так называемой индивидуальной нравственности. Всякий нарушающий ее поступок порицается даже тогда, когда преступник и его жертва составляют одно лицо. Вот почему, согласно кантовской формуле, мы должны уважать человеческую личность повсюду, где она встречается, т. е. как у себя, так и у себе подобных. Чувство, объектом которого она является, в одном случае оскорбленоне менее, чем в другом.
Разделение труда не только содержит в себе черту, по которой мы определяем нравственность; оно стремится вес более и более стать существенным условием социальной солидарности. По мере продолжения в процессе эволюции ослабляются узы, связывающие индивида с его семьей, с родной землей, с завещанными прошлым традициями, с коллективными обычаями группы. Становясь более подвижным, он легче меняет среду, покидает родных, с тем чтобы жить в другом месте более автономной жизнью, более самостоятельно формирует свои идеи и чувства. Без сомнения, от этого не исчезает всякое общее сознание; всегда остается, по крайней мере, тот культ личности, индивидуального достоинства, о котором мы сейчас говорили и который теперь является единственным объединяющим центром стольких умов. Но как мало этого, особенно когда думаешь о все возрастающем объеме социальной жизни и вследствие этого - индивидуальных сознании! Ибо так как они становятся объемистее, так как интеллект становится богаче, деятельность разнообразнее, то, чтобы нравственность стала постоянной, т. е. чтобы индивид остался прикрепленным к группе с силой, хотя бы равной прежней, необходимо, чтобы связывающие его с ней узы стали сильнее и многочисленнее. Значит, если бы не образовалось других уз, помимо тех, которые происходят от сходств, то исчезновение сегментарного типа сопровождалось бы регулярным понижением уровня нравственности. Человек бы не испытывал достаточного умеряющего воздействия; он не чувствовал бы более вокруг себя и над собой того здорового давления общества, которое умеряет его эгоизм и делает из него нравственное существо. Вот что создает моральную ценность разделения труда. Благодаря ему индивид начинает сознавать свое состояние зависимости по отношению к обществу; именно от него происходят сдерживающие и ограничивающие его силы. Словом, так как разделение труда становится важным источником социальной солидарности, то оно вместе с тем становится основанием морального порядка.
Можно, стало быть, в буквальном смысле сказать, что в высших обществах обязанность состоит не в том, чтоб расширять нашу деятельность, но в том, чтобы концентрировать и специализировать ее. Мы должны ограничить свой горизонт, выбрать определенное занятие и отдаться ему целиком, вместо того чтобы делать из своего существа какое-то законченное, совершенное произведение искусства, которое извлекает всю свою ценность из самого себя, а не из оказываемых им услуг. Наконец, эта специализация должна быть продвинута тем далее, чем к более высокому виду принадлежит общество. И другого предела ей поставить нельзя. Без сомнения, мы должны также работать для того, чтобы осуществить в себе коллективный тип, поскольку он существует. Есть общие чувства, идеи, без которых, как говорится, человек не человек. Правило, повелевающее нам специализироваться, остается ограниченным противоположным правилом. Наше заключение состоит не в том, что хорошо продвигать специализацию, насколько только это возможно, но насколько это необходимо. Что касается относительной доли каждой из этих противоположных обязанностей, то они определяются опытом и не могут быть вычислены a priori. Для нас было достаточно показать, что вторая не отличается по природе от первой, что она так же моральна и что, кроме того, эта обязанность становится все важней и настоятельней, потому что общие качества, о которых шла речь; все менее способны социализировать индивида.
Не без основания, значит,общественное мнение испытывает все более явную антипатию к дилетанту и даже к тем людям, которые, увлекаясь исключительно общим культурным развитием, не хотят отдаваться целиком какому-нибудь профессиональному занятию. Действительно, они слабо связаны с обществом, или, если угодно, общество мало привязывает их; они ускользают от него, и именно потому, что они не чувствуют его ни с должной живостью, и с должным постоянством. Они не сознают всех обязанностей, которые возлагает на них их положение социальных существ. Так как общий идеал, к которому они привязаны, по вышеизложенным основаниям носит формальный и неопределенный характер, то он не может далеко вывести их из них самих. Когда не имеешь определенной цели, не многим дорожишь и, следовательно, не намного можешь подняться над более или менее утонченным эгоизмом. Наоборот, тот, кто отдался определенному занятию, каждое мгновение слышит зов общей солидарности, исходящий от тысячи обязанностей профессиональной морали.
Но разве разделение труда, делая из каждого из нас неполное существо, не влечет за собою умаления индивидуальной личности? Вот упрек, часто ему адресуемый.
Заметим прежде всего, что трудно понять, почему сообразнее с логикой человеческой природы развиваться вширь, а не вглубь. Почему более обширная, но более разбросанная деятельность выше деятельности более концентрированной, но ограниченной? Почему достойнее быть полным и посредственным, чем жить более специальной, но более интенсивной жизнью, особенно если у нас есть возможность найти то, что мы таким образом теряем благодаря ассоциации с другими существами, обладающими тем, чего нам недостает, и дополняющими нас? Исходя из принципа, что человек должен осуществить свое, как говорит Аристотель. Но эта природа не остается постоянной в различные моменты истории; она изменяется вместе с обществами. У низших народов собственно человеческое действие - это походить на своих товарищей, осуществлять в себе все черты коллективного типа, который тогда еще более, чем теперь, смешивают с человеческим типом. Но в более развитых обществах его природа в значительной мере - это быть органом общества и его подлинное действие, следовательно, это играть свою роль органа.
Более того: индивидуальная личность не только не уменьшается благодаря прогрессу специализации, но развивается вместе с разделением труда.
Действительно, быть личностью - это значит быть самостоятельным источником действия. Человек приобретает это качество только постольку, поскольку в нем есть нечто, принадлежащее лично ему и индивидуализирующее его, поскольку он - более чем простое воплощение родового типа его расы и группы. Скажут, что во всяком случае он одарен свободной волей и что этого достаточно для основания его личности. Но, как бы дело ни обстояло с этой свободой, предметом стольких споров, не этот метафизический, безличный, неизменный атрибут может служить единственной основой конкретной; эмпирической и изменчивой личности индивида.
Последняя не может быть установлена абстрактной властью выбирать между двумя противоположностями; нужно еще, чтоб эта способность проявлялась в целях и мотивах, свойственных именно действующему лицу. Другими словами, необходимо, чтобы сами материалы сознания имели личностный характер. Но мы видели во второй книге этого сочинения, что такой результат происходит прогрессивно, по мере того как прогрессирует само разделение труда. Исчезновение сегментарного типа, обусловливал большую специализацию, выделяет в то же время отчасти индивидуальное сознание из поддерживающей его органической среды и облекающей его социальной среды, и вследствие этого двойного освобождения индивид все более становится независимымфакторомсвоегособственного поведения.Разделение трудасамоспособствует этому освобождению, ибо индивидуальные натуры, специализируясь, становятся сложнее и в силу этого отчасти избавлены от коллективного воздействия и от наследственных влияний, которые могут действовать только на простые и общие вещи.
Только благодаря какой-то иллюзии можно было думать, что личность была более цельной до проникновения в нее разделения труда. Без.сомнения, рассматривая с внешней стороны разнообразие охватываемых тогда индивидом занятий, можно подумать, что он развивается более свободным и полным образом. Но в действительности эта демонстрируемая им деятельность - не его деятельность. Это общество, раса, действующая в нем и через него; он только посредник, через которого они осуществляются. Его свобода только кажущаяся, а его личность заимствована. Так как жизнь этих обществ в некоторых отношениях менее регулярна, то думают, что оригинальные таланты могут проявляться там легче, что всякому легче следовать собственным вкусам, что более широкое место оставлено для свободной фантазии. Но это значит забывать, что личные чувства тогда весьма редки. Если движущие силы, управляющие поведением, не возвращаются с той же периодичностью, как теперь, то тем не менее они коллективны, следовательно, безличны, и то же самое с внушаемыми ими действиями. С другой стороны, мы выше показали, как деятельность становится богаче и интенсивнее, по мере того как она специализируется.
Таким образом, прогресс индивидуальной личности и прогресс разделения труда зависят от одной и той же причины. Невозможно хотеть одного, не желая другого. Но никто теперь не оспаривает повелительного характераправила, приказывающего нам быть - быть все более и более - личностью.
Еще одно последнее соображение покажет, насколько разделение труда связано со всей нашейморальной жизнью.
Давно уже люди лелеют мечту об осуществлении наконец на деле идеала человеческого братства. Народы взывают к состоянию, когда война не будет законом международных отношений, когда отношения между обществами будут мирно регулироваться, как регулируются уже отношения индивидов между собой, когда все люди будут сотрудничать в одном деле и житьоднойжизнью.Хотяэтистремленияотчасти нейтрализуются другими, направленными на то отдельное общество, часть которого мы составляем, тем не менее они весьма живы и все более и более усиливаются. Но они могут быть удовлетворены только тогда, когда все люди образуют одно общество, подчиненное одним законам. Точно так, как частные конфликты могут сдерживаться только регулирующим действием общества, заключающеговсебеиндивидов,так и интерсоциальные конфликты могут сдерживаться только регулирующим действием одного общества, заключающего внутри себя все другие. Единственная сила, способная умерить индивидуальный эгоизм, - это сила группы; единственная сила, способная умерять эгоизм групп, - это сила другой охватывающей их группы.
Если поставить задачу в таком виде, то нужно признаться, что этот идеал еще далек от своего полного осуществления, ибо имеется слишком много интеллектуальных и моральных различий между социальными типами, сосуществующими на земле, чтоб они могли жить по-братски внутри одного общества. Но зато возможно соединение обществ одного и того же вида, и в этом направлении, по-видимому, движется наша эволюция. Мы уже видели, что над европейскими народами стремится образоваться самопроизвольным движением европейское общество, обладающее отныне некоторым самосознанием и первоначальной организацией. Если образование единого человеческого общества вообще невозможно (что, однако, не доказано), то, по крайней мере, образование все более обширных обществ бесконечно приближает нас к цели. Этот факт, впрочем, ни в чем не противоречит данному нами определению нравственности, так как, если мы связаны с человечеством и должны быть с ним связаны, то потому, что оно - общество, которое находится в процессе самореализации и с которым мы солидарны.
Но мы знаем, что более обширные общества не могут формироваться без развития разделения труда, ибо они не могут удерживаться в равновесии без большей специализации функций; но и одного увеличения числа конкурентов было бы достаточно; чтобы произвести механически этот результат; и это тем более, что приращение объема обычно не совершается без приращения плотности. Можно, стало быть, сформулировать следующее положение: идеал человеческого братства может осуществляться только в той мере, в какой прогрессирует разделение труда. Нужно сделать выбор: или отказаться от своей мечты, или мы откажемся далее сужать свою деятельность, или же продолжать ее осуществление, но при указанном нами условии.
Но если разделение труда производит солидарность, то не потому только, что оно делает из каждого индивида обменщика (echangiste), как говорят экономисты, а потому, что создает между людьми целую систему прав и обязанностей, надолго связывающих их друг с другом. Точно так же, как социальные сходства дают начало праву и нравственности, защищающим их, разделение труда дает начало правилам, обеспечивающим мирное и регулярное сотрудничество разделенных функций. Если экономисты думали,чтоонопорождаетдостаточную солидарность, каким бы образом она ни совершалась, и если, следовательно, они утверждали, что человеческие общества могут и должны распадаться на чисто экономические ассоциации, то это потому, что они считали, будто оно затрагивает только индивидуальные и временные интересы. По этой теории, следовательно, только индивиды правомочны судить о конфликтующих интересах и о способе, каким они должны уравновешиваться, т. е. именно они правомочны определять условия, при которых должен происходить обмен. А так как эти интересы находятся в беспрерывном становлении, то, ни для какой постоянной регламентации нет места. Но такая концепция во всех отношениях не соответствует фактам. Разделение труда ставит друг против друга не индивидов, а социальные функции. Но общество заинтересовано в деятельности последних: сообразно тому, сотрудничают они правильно или нет, оно будет здоровым или больным. Его существование, таким образом, зависит от них, и тем теснее, чем они более разделены. Вот почему оно не может оставить их в состоянии неопределенности; да, впрочем, они определяются сами собой. Так образуются эти правила, число которых возрастает по мере того, как труд разделяется, и отсутствие которых делает органическую солидарность или невозможной, или несовершенной.
Но недостаточно, чтоб были правила, необходимо еще, чтоб они были справедливы, а для этого необходимо, чтобы внешние условия конкуренции были равны. Если, с другой стороны, вспомнить, что коллективное сознание все более и более сводится к культу индивида, то мы увидим, что нравственность организованных обществ сравнительно с нравственностью сегментарных обществ характеризуется тем, что она имеет нечто более человеческое, следовательно, более рациональное. Она не связывает нашу деятельность с целями, которые прямо не затрагивают нас; она не делает из нас служителей идеальных сил, по природе совершенно отличных от нашей силы и следующих собственным путем, не занимаясь человеческими интересами. Она требует от нас только быть гуманными и справедливыми к нам подобным, хорошо делать свое дело, работать над тем, чтобы каждый был призван к функции, которую он может лучше всего исполнять, и получал настоящую цену за свои усилия. Составляющие ее правила не имеют принудительной силы, подавляющей всякое исследование; так как они сделаны для нас и, в известном случае, нами, то мы более свободны по отношению к ним. Мы хотим понять их и меньше боимся их изменять. Нужно, впрочем, остерегаться считать такой идеал недостаточно основательным под предлогом, что он слишком земной и слишком достижимый. Идеал бывает выше не оттого, что он трансцендентное, но оттого, что раскрывает перед нами более обширные перспективы. Важно, чтобы он не парил над нами высоко, рискуя стать для нас чуждым, но открывал для нашей деятельности достаточно обширное поприще, а пока до осуществления нашего идеала еще далеко: Мы слишком хорошо чувствуем, какое это трудное дело - создать общество, где каждый индивид будет занимать то место, которого он заслуживает, и будет вознаграждаться так, как он заслуживает; где, следовательно, все будут сотрудничать для блага всех и каждого. Точно так же одна нравственная система не выше другой оттого, что она повелевает более жестко и авторитарно, оттого, что она избавлена от рефлексии. Несомненно, требуется, чтобы она привязывала нас к чему-то иному, нежели мы сами, но она не обязательно должна привязывать нас до такой степени, чтобы делать нас неподвижными.
Справедливо было сказано, что мораль, а под ней следует понимать не только учения, но и нравы, испытывает опасный кризис. Предшествующее изложение может помочь нам понять природу и причины этого болезненного состояния. За небольшой промежуток времени в структуре наших обществ произошли глубокие изменения; они освободились от сегментарного типа со скоростью и в масштабах, подобных которым нельзя найти в истории. Поэтому нравственность, соответствующая этому типу, испытала регресс, но другая не развилась достаточно быстро, чтобызаполнить пустоту, оставленную прежней нравственностью в наших сознаниях. Наша вера поколеблена; традиция потеряла свою власть; индивидуальное суждение освободилось от коллективного. Но, с другой стороны, у функций, разъединившихся в ходе переворота, еще не было времени для взаимного приспособления, новая жизнь, как бы сразу вырвавшаяся наружу, еще не смогла полностью организоваться, причем организоваться прежде всего так, чтобы удовлетворить потребность в справедливости, овладевшую нашими сердцами. Если это так, то лекарство от зла состоит не в том, чтобы стараться во что бы то ни стало воскресить традиции и обычаи, которые, не отвечая более теперешним социальным условиям, смогут жить лишь искусственной и кажущейся жизнью. Что необходимо - так это прекратить аномию, найти средства заставить гармонически сотрудничать органы, которые еще сталкиваются в беспорядочных движениях, внести в их отношения больше справедливости, все более ослабляя источник зла - разного рода внешнее неравенство. Наше болезненное состояние не носит интеллектуального характера, как иногда думают; оно зависит от более глубоких причин. Мы страдаем не потому, что уже не знаем, на каком теоретическом понятии основывать нравственность, практиковавшуюся до сих пор, но потому, что в некоторых своих элементах эта нравственность необратимо потрясена, а та, которая нам необходима, находится еще в процессе формирования. Наше беспокойство происходит не оттого, что критика ученых разрушила традиционное объяснение наших обязанностей; следовательно, никакая новая система не сможет его рассеять. Но из того, что некоторые из этих обязанностей не основаны на действительном положении вещей, следует ослабление связи, которое будет исчезать только вместе с установлением и упрочением новой дисциплины. Словом, наш первейший долг в настоящее время - создать себе нравственность. Такое дело невозможно осуществить посредством импровизации в тиши кабинета; оно может возникнуть только самопроизвольно, постепенно, под давлением внутренних причин, благодаря которым оно становится необходимым. Рефлексия же может и должна послужить тому, чтобы наметить цель, которую надо достигнуть. Именно это мы и попытались сделать.
ΙSBN 978-5-7568-0740-0
Рубанова С. П. Хрестоматия по социологии: учебное пособие / С. П. Рубанова; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2008. – 139 с.
Для студентов заочного факультета специальности «Социальная работа».
Тема 1 Интеллектуальные истоки социологии
1.1 Античная философия
1.2 Учения утопистов
1.3 Идеи создания государства и гражданского общества в мировой философии
Тема 2 Основоположники социологии
2.1 Позитивизм Огюста Конта
2.2 Социологические концепции Г. Спенсера
Тема 3 Западная социология
3.1 Классическая социология 19-начала 20 вв
3.2 Социальные концепции К. Маркса и Ф. Энгельса
3.3 Неомарксизм и постмарксизм
3.4 Психоаналитическое направление в социологии
3.5 Современные макросоциологические теории
3.6 Конфликтологическое направление в социологии
3.7 Микросоциологические теории
Тема 4 Русские социологи и выходцы из России
4.1 Становление социологии в России, основные школы, направления и этапы развития
4.2 Социология Питирима Сорокина
Тема 5 Гуманистический аспект социологии
Темы контрольных работ
Список литературы
Известно, что любой исторический анализ отвечает на пять основных вопросов: что было? где было? когда было? при каких обстоятельствах? почему? При ответах на эти вопросы по истории социологии необходимо дать представление, что думали ученые разных стран и эпох об обществе, о методах его изучения и почему они рассуждали именно так.
Каковы же признаки и критерии, по которым мы относим знание к социологическому? 1. Онтологические (бытийные) критерии: это знание объекта науки, т. е. знание об обществе, социальных взаимодействиях, их разных проявлениях. 2. Эпистемологические (теоретико-познавательные) критерии. Не всякое знание об обществе следует считать социологическим. К ним относятся знания научные, а не обыденные. 3. Определенные процедуры доказательства, проверки и опровержения. И, конечно, разработка рекомендаций относительно путей воздействия на социальные процессы.
В истории социологии существует множество глобальных теоретических систем, научных школ и направлений. Их все невозможно включить в историю социологии. Для этого используется понятие «парадигма» – это «признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного времени дают модель постановки проблем и их решений научному сообществу».
Примеры парадигмальных понятий в истории социологии: «прогресс», «эволюция», «структура», «функция», «институт» и др. Парадигмальность направлений и школ проявляется в следующих терминах: эволюционизм, биоорганическая школа, функционализм, теория конфликта и т. д. Примеры парадигмальных имен в теории социологии: О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, М. Вебер, П. Сорокин, Р. Мертон и др.
Социология тесно связана с историей. Это проявляется в том, что старые знания, теории, методы здесь не вытесняются новыми, не упраздняются ими раз и навсегда. Ранее достигнутое знание социальной жизни не может исчезнуть совсем. Оно может надолго выпасть из сферы актуального научного знания, но наступает время, и наука вновь обращается к старым идеям на новом витке общественного развития (неомарксизм, неопозитивизм и др.). Именно история социологии даже «омолаживает» старые идеи, исследует различные формы научного знания: эволюционные, революционные, инновационные процессы и традиционные знания, изучает как внутринаучные, так и вненаучные факторы развития социологического знания.
Основополагающую роль в развитии науки играет личность ученого, поэтому значительное место в истории социологии занимает изучение комплекса факторов, связанных с личностью исследователя, включая его биографию, ценностные ориентации и т. д. Но главное в истории социологии – логика самого познавательного процесса. Английский философ Уайтхед утверждал, что наука, которая не может забыть своих основателей, погибла (т.е. перестала развиваться), но наука, забывая своих основателей, тоже обречена на гибель. История научного познания – это коллективная память науки об обществе. Поэтому представление о том, что такое социология, определяется тем, насколько осмыслена ее история.
В связи с небольшим объемом пособия мы ограничились вступительными статьями о некоторых социологах, их основными идеями, подкрепленными фрагментами из авторских произведений. К ним мы добавили вопросы для самоконтроля, цель которых – помочь разобраться в тех идеях и концепциях, которые социологи пытались донести до читателя.
Кроме того, прилагаем список тем для контрольных работ по разделу «История социологии».
Список литературы
1. Аристотель. Антология мировой философии: [Текст] в 4-х т. Т. I, ч. I: Философия древности и средневековья / Аристотель. – М.: Мысль, 1969 – С. 407-475.
2. Бердяев, Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма [Текст] Н. А. Бердяев. – М.: Наука, 1990. – 220 с.
3. Бердяев, Н. А. Русская революция и мир коммунистический [Текст] Н. А. Бердяев // СОЦИС: ежемес. науч. и обществ.-полит. журн. – 1990. – №10. – С. 89-103.
4. Вебер, М. Основные социологические понятия [Текст] / М. Вебер // Избранные произведения; пер. М. М.Левиной. – М., 1990. – С. 136-149, 198-208, 602-625.
5. Вебер, М. Основные понятия стратификации [Текст] / М. Вебер // СОЦИС: ежемес. науч. и обществ.-полит. журн. – 1994. – №5. – С.197-156.
6. Вебер, М. О буржуазной демократии в России [Текст] / М. Вебер // СОЦИС: ежемес. науч. и обществ.-полит. журн. – 1992. – №3. – С. 130-139.
7. Вебер, М. О некоторых категориях понимающей социологии [Текст] / М. Вебер // Западно-европейская социология XIX – начала XX вв. – М.,1996. – С. 491-506.
8. Грицанов, А. А. Неомарксизм [Текст] / А. А. Грицанов // Социология: энциклопедия; сост. А. А.Грицанов и др. – Минск.: Книжн. Дом, 2003. – С. 625.
9. Гоббс, Т. Антология мировой философии [Текст]: в 4-х т. Т. II: Европейская философия от эпохи Возрождения по эпоху Просвещения / Т. Гоббс.– М.: Мысль, 1970 –– С. 307-349.
10. Гофман Ирвинг. Представление себя другим в повседневной жизни [Текст] / Ирвинг Гофман; под ред. М. С. Ковалева. – М.: Канон-пресс-Ц: Кучково поле, 2000. – 304 с.
11. Давыдов, Ю. Н. Веберовская социология капитализма [Текст] / Ю. Н. Давыдов // СОЦИС: ежемес. науч. и обществ.-полит. журн. – 1994. – №8/9. – С. 185-193. – №10. – С. 165-175.
12. Дарендорф, Р. Элементы теории социального конфликта [Текст] / Р. Дарендорф // СОЦИС: ежемес. науч. и обществ.-полит. журн. – 1994. – №5. – С. 142-147.
13. Дюркгейм, Э. Ценностные и реальные суждения [Текст] / Э. Дюркгейм // СОЦИС: ежемес. науч. и обществ.-полит. журн. – 1991. – №2. – С. 106-114.
14. Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда. Метод социологии [Текст] / Э. Дюркгейм. – М.: Наука, 1990. – С. 411-447.
15. Ионин, Л. Г. Альфред Щюц и социология повседневности [Текст] / Л. Г. Ионин // Американская социологическая мысль; под ред. В. И. Добренькова. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – С. 180-195.
16. Кант, И. Антология мировой философии [Текст]: в 4-х т. Т. III: Буржуазная философия конца XVIII в. – первых двух третей XIX в. / И. Кант.– М.: Мысль, 1971 –– С. 189-190.
17. Конт, О. Дух позитивной философии [Текст] / О. Конт // Западно-европейская социология XIX века. – М.,1996. – С. 140-145.
18. Кули, Ч. Социальная самность [Текст] / Ч. Кули // Американская социологическая мысль; под ред. В. И. Добренькова. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – С. 316-329.
19. Козер, А. А. Функции социального конфликта [Текст] / А. А. Козер // Американская социологическая мысль; под ред. В. И. Добренькова. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – С. 542-556.
20. Лавров, П. Л. Социальная революция и задачи нравственности [Текст] / П. Л. Лавров // Философия и социология: избр. произведения в 2-х томах. – М., 1965. – Т.2. – С. 412-423.
21. Локк. Антология мировой философии [Текст]: в 4-х т. Т. II: Европейская философия от эпохи Возрождения по эпоху Просвещения / Локк – М.: Мысль, 1970 – С. 412-442.
22. Маркс, К. К критике политической экономии. Предисловие [Текст] / К. Маркс, Ф. Энгельс // Собр. соч. ; изд. 2-е. – М.: Политиздат, 1959. – Т.13. – С. 5-7.
23. Мертон, Р. К. Социальная теория и социальная структура [Текст] / Р. К. Мертон // СОЦИС: ежемес. науч. и обществ.-полит. журн. – 1992. – №2. – С. 118-124.
24. Мертон, Р. К. Социальная структура и аномия [Текст] / Р. К. Мертон // СОЦИС: ежемес. науч. и обществ.-полит. журн. – 1992. – №3. – С. 104-114.
25. Мертон, Р. К. Явные и латентные функции [Текст] / Р. К. Мертон // Американская социологическая мысль; под ред. В. И. Добренькова. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – С. 379-448.
26. Мид, Дж. От жеста к символу [Текст] / Дж. Мид // Американская социологическая мысль; под ред. В. И. Добренькова. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – С. 215-224.
27. Мид, Дж. Интренализованные другие и самость [Текст] / Дж. Мид // Американская социологическая мысль; под ред. В. И. Добренькова. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – С. 224-227.
28. Москвин, С. А. Герберт Спенсер против тоталитаризма [Текст] / С. А. Москвин // СОЦИС: ежемес. науч. и обществ.-полит. журн. – 1992. – №2. – С. 125-129.
29. Парсонс, Т. Понятие общества: компоненты их взаимоотношения [Текст] / Т. Парсонс // Американская социологическая мысль; под ред. В. И. Добренькова. – М.: Изд-во МГУ, 1996. – С. 454-526.
30. Платон. Антология мировой философии [Текст]: в 4-х т. Т. I, ч. I: Философия древности и средневековья / Платон. – М.: Мысль, 1969 – С. 370-407.
31. Райт, Э Классовая структура американского общества [Текст] / Э. Райт и др. // Социс: Социол. исслед. – 1984. – №1. – С. 151-163.
32. Ритцер, Дж. Постмарксистская теория [Текст] / Дж. Ритцер // Современные социологические теории. – 5-изд-е. – СПб.: Питер, 2002. – С. 200-214.
33. Руткевич, А. М. «Анатомия деструктивности» Э. Фромма [Текст] / А. М. Руткевич // Вопросы философии. – 1991. – №9. – С. 161-170.
34. Сорокин, П. А. Человек. Цивилизация. Общество [Текст] / П. А. Сорокин. – М.: Политиздат, 1992. – 543 с.
35. Сорокин, П. А. Моя философия – интегрализм [Текст] / П. А. Сорокин // СОЦИС: ежемес. науч. и обществ.-полит. журн. – 1992. – №10. – С. 134-139.
36. Сорокин, П. А. Самоубийство как общественное явление [Текст] / П. А. Сорокин // СОЦИС: ежемес. науч. и обществ.-полит. журн. – 2003. – №2. – С. 104-114.
37. Сорокин, П. А. Таинственная энергия любви [Текст] / П. А. Сорокин // СОЦИС: ежемес. науч. и обществ.-полит. журн. – 1991. – №8. – С. 121-137; №9 – С. 144-159.
38. Спенсер, Г. Грехи законодателей [Текст] / Г. Спенсер // СОЦИС: ежемес. науч. и обществ.-полит. журн. – 1992. – №2. – С. 129-136.
39. Утопический социализм: хрестоматия [Текст]. – М.: Политиздат, 1982. – 512 с.
40. Фрейд, З. Психология масс и анализ человеческого «Я» [Текст] / З. Фрейд. – М.: АСТ, 2005. – 188 с.
41. Фрейд, З. Психология бессознательного: [Текст] сборник произведений / З. Фрейд; под ред. Ярошевского. – М.: Просвещение, 1990.
42. Фромм, Э. Анатомия человеческой диструктивности [Текст] / Э. Фромм // СОЦИС: ежемес. науч. и обществ.-полит. журн. – 1992. – №7. – С. 126-134.
43. Фромм, Э. Некрофилы и Гитлер [Текст] / Э. Фромм // Вопросы философии. – 1991. – №9. – С. 69-160.
44. Хоманс, Дж. Статус конторских служащих [Текст] / Дж. Хоманс // СОЦИС: ежемес. науч. и обществ.-полит. журн. – 1993. – №3. – С. 130-134.
45. Хоманс, Дж. Возвращение к человеку [Текст] / Дж. Хоманс // Американская социологическая мысль; под ред. В. И. Добренькова. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – С. 46-61.
46. Хорни, К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ [Текст] / К. Хорни. – М.: Прогресс, 2000. – 480 с.
47. Щюц, А. Формирование понятия и теории в общественных науках [Текст] / А. Щюц // Американская социологическая мысль; под ред. В. И. Добренькова. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – С. 481-495.
48. Щюц, А. Возвращающийся домой [Текст] / А. Щюц // СОЦИС: ежемес. науч. и обществ.-полит. журн. – 1995. – №2. – С. 136-142.
49. Щюц, А. Структура повседневного мышления [Текст] / А. Щюц // СОЦИС: ежемес. науч. и обществ.-полит. журн. – 1993. – №9. – С. 126-134.
50. Энгельс, Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства / Ф. Энгельс // Собр. соч. ; изд. 2-е. – М.: Политиздат, 1959. – Т. 21. – С. 23-178.
Общая социология. Хрестоматия. Сост. Здравомыслов А.Г., Лапин Н.И.

М.: Высшая школа, 2 006. - 7 83 с.
Хрестоматия является частью учебного комплекса "Общая социология", победившего на конкурсе учебников и учебных пособий по гуманитарным дисциплинам для вузов, проведенном в 2001-2003 гг. Российским гуманитарным научным фондом и Министерством образования Российской Федерации. В составе этого учебного комплекса по единой программе подготовлены: Учебное пособие, Хрестоматия, Практикум. В Хрестоматию включено свыше 100 текстов, авторами которых являются 70 социологов мира: классиков и современников, зарубежных и отечественных. Тексты сгруппированы по разделам пособия "Общая социология", чтобы облегчить студентам усвоение учебного материала, а преподавателям - организацию учебного процесса. Хрестоматия будет полезна преподавателям других гуманитарных и общественных наук, всем, кто стремится глубже понять проблемы современного российского общества, тенденции его эволюции.
Формат: doc / zip
Размер: 1,35 Мб
/ Download
файл
![]()
Оглавление
Предисловие
Часть I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ
Раздел 1. Методологические основания общей социологии; предпосылки
антропосоциетального подхода
1.1. Исходные общесоциологические концепции
О. Конт. [Введение термина sociologie]
Г. Спенсер. Что такое общество
К. Маркс. О производстве сознания
[Что такое общество]
[Общественно-экономическая формация]
1.2. Методологические подходы к изучению общества как целого
Ф. Теннис. Предмет обсуждения. [Общность и общество]
Г. Зиммель. [О реальности общества]
Э. Дюркгейм. Что такое социальный факт?
М. Вебер. Понятие социологии и «смысла» социального действия
П. Сорокин. Социологический реализм и номинализм
Родовая структура социокультурных явлений
Т. Парсонс. Понятие общества
Р. Мертон. Явные и латентные функции
Э. Шилз. Общество и общества: макросоциологический подход
К. Поппер. Открытое общество и его враги
Эстетизм, утопизм и идея совершенства
1.3. Человек действующий, общество, социальная система
Г. Блумер. Символический интеракционизм
Э. Гидденс. Общества и социальные системы
Н. Луман. Общество как всеохватывающая социальная система
А. Турен. Возвращение человека действующего
Часть II ЛИЧНОСТЬ VERSUS ОБЩЕСТВО
Раздел 2. Общество в личности, личность в обществе
2.1. Структура личности, социализация
П.Л. Лавров. Личность и общество
3. Фрейд. Я и сверх-Я
Дж. Мид. Восприятие «другого»
3. Гофман. Природа почтительности и пристойного поведения
4. Кули. Первичные группы
Т. Парсонс. Процесс социализации и структура референтных групп
В. Томас, Ф. Знанецкий. Три типа личности
2.2. Мотивация деятельности субъектов
А.И. Герцен. [О субъекте социального действия]
Ф.Теннис. Формы человеческой воли
A. Маршалл. Желания в их отношении к видам деятельности
B. Томас. Четыре желания и определение ситуации
Й.Шумпетер. Мотивы предпринимательской деятельности
Ф. Ротлисбергер и В. Диксон. Организация первичной рабочей группы
Э. Дюркгейм. [Преступность и социальные нормы]
2.3. Массовизация индивидов
C. Сигеле. Преступления толпы
3. Фрейд. Массаи первобытная орда
С. Московичи. Индивид и масса
2.4. Индивидуализация жизни в обществе
Н.Элиас. Общество индивидов
А. Турен. Возвращение субъекта
3. Бауман. Свобода и безопасность: неоконченная история непримиримого
союза
Часть III СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА
Раздел 3. Малые общества, первичные общности
3.1. Общие проблемы становления общества
М.М. Ковалевский. Понятие генетической социологии и ее метод
Р. Макивер. Социальная эволюция как реальность
М. Салинз. Общество первоначального изобилия
3.2. Семья
Э. Гидденс. Родство, браки семья
М. Мацковский, Д. Олсон. Семья в России и в США: сравнительный обзор
И.С. Кон. Сексуальная культура XXI века
3.3. Общины
Ф. Энгельс. Марка
М. Вебер. Домашнее хозяйство, род, деревня и поместье
Город
Ф. Теннис. [«Эра общности» и «эра общества»]
Ф. Трашер. Социальные стандарты и бандитизм
3.4. Религия
Б. Малиновский. Магия и религия
М. Вебер. Община [религиозная]
С.Н. Булгаков. Православие и хозяйственная жизнь
3.5. Этнос
К. Леви-Строс. Существуют ли дуальные организации?
Л.М. Дробижева. Что такое народ, этнос?
Раздел 4. Большие общества. Социетально-функциональные структуры
4.1. Культура, ценности
Дж. Мэрдок. Фундаментальные характеристики культуры
Н.А. Бердяев. Об иерархии ценностей. Цели и средства
М. Вебер. «Дух» капитализма [и традиционализм
4.2. Труд, экономика
Э. Дюркгейм. Функция разделения труда
К. Поланьи. Общества и экономические системы
Ф. Найт. Экономическая организация
4.3. Социальная стратификация и мобильность
П. Сорокин. Социальная и культурная мобильность
Е. Гобло. Класс и профессия
Р. Коллинз. Стратификация сквозь призму теории конфликта
4.4. Управление, политика
A. Маршалл. Управление бизнесом
Дж.С. Милль. Функция правительства как такового
B. Парето. Циркуляция элит
Р.Арон. [Ототалитаризме]
Э. Хьюз. Хорошие люди и грязная работа
Часть IV ДИНАМИКА ОБЩЕСТВА
Раздел 5. Антропосоциетальные трансформации в западных странах
5.1. Западноевропейская традиционализация
Ф. Бродель. Европа: механизмы на нижнем пределе обменов
М. Вебер. Экономические формы производства торговли
Ф. Энгельс. Крестьянская война в Германии
Т. Парсонс. Средневековое общество
5.2. Ранняя либерализация
К. Маркс. Так называемое первоначальное накопление
К. Поланьи. Рождение либерального символа веры
М. Вебер. Религиозная основа мирского аскетизма
Т. Парсонс. Появление первых компонентов современной системы
5.3. Зрелая либерализация
Д. Белл. Технологические перемены
Р. Инглехарт. Культурный сдвиг в зрелом индустриальном обществе
М. Кастельс. Новое общество
5.4. Напряжения в либеральном обществе
Э. Шилз.[Центр и периферия
Н. Элиас. Догосударственные общности в больших обществах
А.Г. Здравомыслов. Релятивистская теория наций
М. Кастельс. Становление общества сетевых структур
5.5. Порядок и кризис в либеральном обществе
М. Вебер. Понятие легитимного порядка
Типы легитимного порядка: условность и право
А. Турен. Действие, порядок, кризис, изменение
3. Бауман. Локальный порядок на фоне глобального хаоса
Раздел 6. Социетальные трансформации российского общества
6.1. Российская традиционализация
В.О. Ключевский. [Историческая социология]
СМ. Соловьев. Предисловие [Ход русской истории]
Внутреннее состояние русского общества в первый период его существования
В.О. Ключевский. [О сельской общине]
[О прикреплении крестьян]
Н.А. Добролюбов. Что такое обломовщина?
Н.В. Калачев. Артели древней и нынешней России
В.О. Ключевский. [Периоды русской истории]
6.2. Человек в трансформирующемся обществе
Н.Н. Козлова. Горизонты повседневности советской эпохи
В.Н. Шубкин. Человек биологический, социальный, духовный
Н.Ф. Наумова. Рецидивирующая модернизация как форма развития социальных
систем
Ю.А. Левада. Координаты человека. К итогам изучения «человека
советского»
Н.И. Лапин. Расхождения и возможные синтезы в динамике терминальных и
инструментальных ценностей россиян
Л.А. Гордон, Э.В. Клопов. Основные типы противоречивых перемен
6.3. Векторы и механизм социетальной трансформации
Б.А. Грушин. Смена цивилизаций?
А.Г. Здравомыслов. Теория кризиса в российской социологической
литературе
О.И. Шкаратан. Этакратизм и российская социетальная система
Т.И. Заславская. О социальном механизме посткоммунистических
преобразований в России
6.4. Роль социологического знания в российской трансформации
В.А. Ядов. Некоторые социологические основания для предвидения
будущего российского общества
Г.В. Осипов. Российская социология в XXI веке
Вместо заключения
, Лапин Н.И. Общая социология. Хрестоматия / Сост. А.Г. Здравомыслов, 0 28 Н.И. Лапин; Пер. В.Г. Кузьминов;Под общ. ред. Н.И. Лапина - М.: Высш. шк., 2006. -783 с.
Аннотация
Хрестоматия является частью учебного комплекса «Общая социология», победившего в конкурсе учебников и учебных пособий по гуманитарным дисциплинам для вузов, проведенном в 2001-2003 гг. Российским гуманитарным научным фондом и Министерством образования Российской Федерации. В составе этого учебного комплекса по единой программе подготовлены: Учебное пособие, Хрестоматия, Практикум. В Хрестоматию включено свыше 100 текстов, авторами которых являются 70 социологов мира: классиков и современников, зарубежных и отечественных. Тексты сгруппированы по разделам пособия «Общая социология», чтобы облегчить студентам усвоение учебного материала, а преподавателям - организацию учебного процесса. Хрестоматия будет полезна преподавателям других гуманитарных и общественных наук, всем, кто стремится глубже понять проблемы современного российского общества, тенденции его эволюции.
При оформлении книг учебного комплекса «Общая социология» репродуцировались фрагменты работ П. Филонова: в базовом пособии - «Человек в мире»; в Приктикуме - «Одиннадцать голов»; в Хрестоматии - «Композиция»