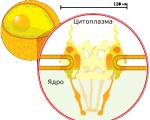Архитектор иофан работы. Борис Иофан — от Рима к Вавилону
Биография
Выдающийся советский архитектор, градостроитель, педагог; один из ведущих представителей сталинского монументального классицизма. Автор неосуществлённого проекта дворца Советов. Лауреат Сталинской премии второй степени (1941). Народный архитектор СССР (1970).
Родился в Одессе, окончил Одесское художественное училище. Затем учился в Институте изящных искусств в Риме, где начал свою самостоятельную архитектурную практику. В Италии сохранился целый ряд его построек, таких как капелла Амброджи, электростанция в Тиволи и т.д. В 1924 году Борис Иофан вернулся в Россию, где получил возможность создать ряд крупных проектов, в их числе инновационный для своего времени «Дом на набережной», санаторий «Барвиха» и принесшие ему мировую известность проект Дворца Советов и павильоны СССР на международных выставках 1937 и 1939 годов в Париже и Нью-Йорке.
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Один из крупнейших и лучших советских зодчих - родился в 1891 г. в Одессе. Там же прошло и его детство. Еще мальчиком Иофан увлекается рисованием и решает в будущем стать живописцем. В 12 лет он поступает на живописное отделение художественного училища. Позже, под влиянием товарищей, Иофан переходит с живописного на архитектурное отделение. В 1911 г. он заканчивает училище и получает диплом об окончании курсов и звание техника-архитектора. По отбытии военной службы Иофан практикует в Петербурге подмастерьем у известных архитекторов А.О. Таманяна, И.И. Долгинова, частично работает у своего старшего брата Дмитрия. Изучая произведения русского классицизма, молодой архитектор мысленно все больше обращался к истокам архитектуры.
В 1914 г. Иофан уезжает в Италию, в которой пребывает 10 лет. Окончание художественного училища дало Иофану право поступить сразу на третий курс Высшего института изящных искусств в Риме. Большой след в жизни Иофана оставил архитектор Армандо Бразини, его будущий соперник в конкурсе на проект Дворца Советов в Москве. В 1916 г. Иофан успешно заканчивает Высший институт изящных искусств и начинает работать самостоятельно. Он много строит в Италии (Рим, Аквиль, Тиволи, Тоскана и др.). Затем заканчивает курс в Высшей инженерной школе. В 1921 г. вступает в итальянскую компартию. иофан борис зодчество советский
В 1924 г. Иофан возвращается в СССР. Его привозит в Москву А.И. Рыков, с которым он познакомился в Риме. Рыков находился в Италии на лечении после перенесенного инфаркта. Он предлагает Иофану строить новую советскую жизнь, новую социалистическую архитектуру - радостную, величественную и помпезную. Иофана заинтересовало это предложение прежде всего потому, что он мечтал строить крупномасштабные общественные сооружения и в реалиях советской действительности ему открывались заманчивые перспективы.
Борис Иофан стал крупной и значимой фигурой советского зодчества. В Москве по его проектам были построены удобные и функциональные жилые дома, общественные и учебные заведения. Первым жилым комплексом, построенным в Москве, стали дома на Русаковской улице (1925 г.) с прекрасной экономичной планировкой квартир и гармоничным экстерьером.
Крупнейшим реализованным замыслом архитектора стал комплекс Дома ЦИК и СНК СССР на Берсеневской набережной (1927-1931). Это сооружение является важной вехой на творческом пути зодчего. Возведенный в эпоху увлечения идеей домов-коммун, этот дом существенно отличался от них. Он содержал в себе, кроме жилья, большое количество пристроенных общественных помещений: клуб с театральным залом (ныне театр Эстрады), самый большой тогда в Европе кинотеатр "Ударник" на 1600 зрителей, универмаг с продуктовым и промтоварным отделениями, столовую, спортзал, библиотеку, механическую прачечную, почту и сберкассу. Дом имел на себе отпечаток времени, выраженный в аскетизме внешнего облика. Тогда господствовал строгий и лаконичный конструктивизм, отличительными чертами которого были простые, логически геометризованные формы. Мрачно-серые стены создавали впечатление несокрушимой мощи, подавляющей своим величием, что явно выделяло это сооружение среди построек позднего конструктивизма и, очевидно, должно было вносить в архитектурный образ дома некий признак могущества и несокрушимости власти, которой он принадлежал. Некоторое разнообразие в это вносили фонтаны, размещенные архитектором во внутренних дворах комплекса, в память о его пребывании в Италии.
На участке более трех гектар, ограниченном Берсеневской набережной, улицей Серафимовича и обводным каналом, на трех с половиной тысячах свай было возведено около полумиллиона кубометров жилой и общественной площади, что даже по сегодняшним масштабам является огромным строительством. В доме было 505 квартир, в которых было все для удобного проживания. Дом Правительства был первым и последним объектом элитного жилья, к которому применимо определение - простой, аскетичный объем. Все, последовавшие за ним, дома для советской элиты были тесно связаны с изменившейся творческой направленностью советской архитектуры, взявшей курс на освоение классического наследия".
"В самом начале 1930-х годов происходили серьезные события в советской архитектуре. Прежние острые разногласия между конструктивистами и традиционалистами были притушены, и представители всех прежде враждебных друг другу течений вошли в 1932 году в единый Союз советских архитекторов. Новые веяния в архитектуре явились опосредованным отражением изменений в общественном сознании. В социальной психологии общества наметились две, казалось бы, разнонаправленные тенденции.
С одной стороны, перестал удовлетворять массы идеал аскетизма и самоограничения первых революционных лет. Люди как бы несколько устали от суровости быта, им захотелось чего-то более человечного, понятного и уютного. Уже в конце 1920-х годов Маяковский устами спящих вечным сном у Кремлевской стены революционеров спрашивал у своих современников: "А вас не тянет всевластная тина? Чиновность в мозгах паутину не свила?" Поэт явно чувствовал возникающее стремление не столько даже к ненавидимой им "изящной жизни", сколько просто к более спокойному, прочному существованию в капитально построенных домах среди настоящих, крепких, красивых, "дореволюционных" вещей.
С другой стороны, успехи индустриализации, выполнение первого пятилетнего плана, пуск новых заводов, строительство Днепрогэса, Магнитогорска, Турксиба и т.д. порождали энтузиазм, желание видеть и в искусстве, в том числе и в архитектуре, увековеченными эти победы.
Хотя истоки этих двух тенденций были различны, они, переплетаясь и взаимодействуя, породили желание видеть несколько иное искусство - не чисто агитационное и только призывающее, не аскетичное и суровое, а более светлое, утверждающее, близкое и понятное каждому и в определенной мере пафосное, прославляющее. От этого нового, небывалого еще искусства ждали понятности и впечатляющей величавой силы. Это искусство не должно было резко рвать с традицией подобно конструктивизму и производственничеству 1920-х годов, по, наоборот, в чем-то опираться на культурное наследие прошлых эпох и на мировой художественный опыт... Это было естественно: новый, вышедший на историческую и государственную арену класс должен был освоить культурные богатства свергнутых классов, а не "перепрыгивать" через них.
Именно такую архитектуру предложил Б.М. Иофан в конкурсных проектах Дворца Советов и Парижского павильона, смело сочетая ее с пластическими искусствами, в частности со скульптурой, приобретавшей новые "архитектурные" качества. Справедливо пишет доктор архитектуры А.В. Рябушин, что в сложившихся социально-психологических условиях творческая фигура Иофана оказалась в высшей степени исторически современной. Воспитанный в традициях классической школы, он не остался чужд архитектурных веяний периода своего ученичества. Тщательно изучив старую архитектуру Италии, он в то же время прекрасно знал современную ему западную практику и мастерски владел языком зодчества 1920-х годов.
Архитектура Иофана представляет собой цельный и, главное, образный сплав разнородных тенденций и истоков. Это была архитектура эмоциональная, динамичная, устремленная вперед и вверх, построенная на достаточно привычных, хорошо воспринимаемых пропорциях и сочетаниях масс и объемов, вместе с тем выразительно использующая прямолинейность, четкую геометричность конструктивизма, да и к тому же еще в сочетании с фигуративной пластикой и отдельными классическими деталями профилированными тягами, картушами, пилонами и т.д. Причем классические мотивы часто нарочито упрощались, а от архитектуры 1920-х годов брался лаконизм и структурная ясность целого. Все это позволяло Б.М. Иофану, как считает А.В. Рябушин, создать "свой ордер, свой порядок построения и развития архитектурных форм, крупномасштабность и сочная пластика которых сочетались с филигранной профилировкой вертикально устремленных членений"."
Борис Михайлович Иофан (1891-1976) принадлежит поколению архитекторов, творческая деятельность которого широко развернулась в период поисков новых принципов зодчества, связанных с развитием техники XX века и стремлением пластическими средствами выразить идеи социального прогресса, гуманизма и демократии.
Зодчий глубоко знает и любит классическое искусство, но он считает, что изучать и знать старое нужно лишь для того, чтобы идти вперед.
Б. М. Иофан родился в 1891 году в Одессе. Двенадцати лет он поступил в Одесское художественное училище. Иофан не нашел среди преподавателей-архитекторов примеров для подражания. На первых порах обучения он охотно берет уроки мастерства у живописцев Ладыженского и Костанди, а затем его любимым наставником становится скульптор гарибальдиец Иорини - один из основателей училища. Не случайно проект загородного дома (последний перед выпуском), решенный молодым архитектором в очень сдержанной манере, без обязательных тогда аксессуаров традиционного декора, читается как фон для скульптуры.
После окончания в 1911 году училища и отбытия воинской повинности Иофан уезжает в Петербург, где работает на стройках в качестве помощника у ряда столичных архитекторов.
В начале 1914 года Иофан едет в Италию. Там в 1916 году он успешно заканчивает архитектурный факультет Высшего института изящных искусств (Regio Instituto Superiore di belle arti in Roma). В качестве дипломного проекта Иофан представил архитектурный монумент-мемориал жертв первой мировой войны, в котором впервые ярко проявилось его тяготение к монументальным объемно-пространственным решениям, композиционно органически связанным с окружающей природой.
В Италии Иофан работает вначале помощником у известного римского архитектора Бразини, выступает на конкурсах, а затем самостоятельно строит жилые дома в предместьях Рима: Монте Верде (1916) и Колина Вольпи (1922), в г. Парни (1918). В это же время ему представляется возможность соорудить (частично) колумбарий в Парни и капеллу Амброджи на римском кладбище Сан Лореицо (San Lorenzo fuori le Mura, 1919-1920). Параллельно с практическим строительством он учился в Высшей инженерной школе (R. Scuola d"applicazione per gli ingegneri in Roma), что позволило в дальнейшем со знанием дела разбираться в вопросах строительной механики и организации строительного производства.
В 1921 году, в год прихода к власти фашизма, Иофан вступает в Коммунистическую партию Италии. Через полвека ЦК ИКП, награждая архитектора памятной медалью, напишет ему: «Вы всегда поддерживали тесную связь в духе пролетарского интернационализма и принимали живое участие в нашей борьбе».
Незадолго до возвращения на Родину Борис Михайлович Иофан спроектировал в Италии первое за рубежом Посольство Союза ССР (1923). Скульптурная композиция, завершавшая это здание, выражала основополагающую идею советского государства - союз рабочих и крестьян.
В 1924 году Иофан вернулся в СССР. С жаром человека, истосковавшегося по Родине, архитектор включился в восстановление народного хозяйства. Он уезжает в Донбасс, проектирует и строит там рабочий поселок Штеровской электростанции. В этом поселке (1924), а затем в жилых домах по Русаковской улице в Москве (1925), можно проследить его стремление ответить на новые социальные условия. Так, он компонует жилые дома не изолированно друг от друга, а в едином комплексе, с озелененными открытыми дворами.
При проектировании и строительстве (1928-1931) огромного жилого массива по улице Серафимовича в Москве, архитектор совместно с Д. М. Иофаном смело ищет и находит новые приемы. Тесный участок, зажатый между каналом и рекой, на котором предстояло разместить своего рода фаланстер (более пятисот квартир, клуб, кинотеатр, спортзал, библиотеку, универмаг, столовую, детский сад, ясли, механическую прачечную), предопределил многоэтажный характер композиции. В сложных условиях архитектор сумел найти новое объемно-пространственное решение. Весь комплекс был запроектирован из зданий-блоков, сгруппированных вокруг трех внутренних открытых дворов, связанных между собой высокими проездами. Крупные помещения общественного назначения выделены отдельными объемами и ясно читаются на фоне жилой части всего сооружения.
Включенный в общий массив дома кинотеатр «Ударник» свободен от недостатков, свойственных встроенным или пристроенным помещениям данного назначения, и по своей архитектуре и инженерному решению является новаторским произведением первых лет становления советского зодчества. Архитектура кинотеатра, подчеркивающая его назначение и особенности, не растворяется в архитектуре жилой части комплекса, а становится элементом, организующим пространство. План зрительного зала решен в форме трапеции, суживающейся к экрану. Амфитеатровым прием размещения 1500 зрителей создает одинаковые условия видимости со всех мест. Кинозал перекрыт железобетонным арочным сводом большого пролета. Новаторское решение дополнено устройством, позволяющим при желании раскрыть крышу и демонстрировать фильмы под открытым небом.
В период постройки этого крупного объекта по проектам Иофана сооружались также: здание опытной станции Химического института им. Карпова (1927), часть комплекса Сельскохозяйственной академии им. Тимирязева (1929-1932), подмосковный санаторий «Барвиха» (1929-1935), представляющий одну из больших его удач. С 1931 года начинается почти двадцатипятилетний период интенсивной творческой деятельности мастера в области проектирования и строительства монументальных сооружений. Иофан принимает активное участие в конкурсах на проект Дворца Советов, неизменно лидируя на всех этапах (высшая премия на Всесоюзном открытом и решение о принятии в основу окончательной разработки сооружения его проекта - на заключительном конкурсе в мае 1933г.). На протяжении всей работы по проектированию Дворца Советов *, от графического осмысливания задачи, до ее яркого воплощения в четких, характерных объемах и пластической обработке фасадов, Иофан настойчиво и последовательно ищет выражения идейно-художественного образа сооружения для массовых народных собраний и как памятника основателю советского государства. Первая задача, естественно, вызывала ассоциации с подобного рода сооружениями античности - древними амфитеатрами, планировку и пропорции которых мастер проникновенно изучал и великолепно знает. Идея Большого и Малого полукруглого залов, возникшая еще на предварительном конкурсе, осталась непременным основополагающим элементом архитектурной композиции на всех этапах разработки его проекта. Скульптурное завершение, намеченное в первоначальных предложениях Иофана, в процессе дальнейшей работы получило монументальное выражение, надолго предопределившее образ здания.
* В дальнейшей разработке проекта участвовали в качестве соавторов архитекторы В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейх. Скульптор - Д. С. Меркуров.
Благодаря принципиальной схеме, характерной для русской архитектуры - ярусности, выразительной пластике объемов, высотности, - сооружение не подавляло грандиозностью абсолютных размеров, а становилось мощной вертикалью, композиционно объединяющей весь город. В градостроительном отношении зона архитектурного влияния Дворца Советов поддерживалась сооружением ряда высотных зданий, которые создавали новый силуэт столицы и в дальнейшем сказались на масштабе всей ее застройки.
Война помешала осуществить Дворец Советов, но его роль в истории советской архитектуры трудно переоценить. О новых эстетических нормах, о том эмоциональном воздействии, которое могло бы иметь это произведение, возможно отчасти судить по другим работам архитектора, воплощенным в натуре в период интенсивного проектирования и строительства Дворца Советов.
В 1937 году по проекту Иофана сооружен Советский павильон на Международной выставке в Париже (диплом «Гран при», золотая медаль, Государственная премия СССР), а в 1939 - Советский павильон на Международной выставке в Нью-Йорке (архитектору присвоено звание почетного гражданина города). Произведения эти не укладываются в обычные рамки архитектурных сооружений временного типа. В них автор показал умение не только органически связать внутреннее пространство и внешний объем, но в равной мере мастерски заставить работать на архитектурный образ и окружающую среду. Так, в обоих павильонах на крайне неудобных участках: в первом случае - чрезмерно узком и вытянутом, во втором - неправильной, ломаной формы, он нашел композиционные решения, превратившие недостатки в преимущества. Анфилада выставочных залов павильона в Париже, была выражена объемами, силуэты которых, нарастая уступами к главному фасаду, сообщали сооружению легкость и динамичность, смело подхваченную стремительными формами скульптуры «Рабочий и колхозница» (скульптор В. И. Мухина).
В нью-йоркском павильоне кольцевая галерея выставочных залов создавала внутреннее пространство под открытым небом: через пропилеи можно было попасть как бы на территорию Советского Союза - в амфитеатр, организованный вокруг обелиска, который вместе с фигурой «Рабочий» (скульптор В. А. Андреев) составил вертикальную ось архитектурной композиции и служил выразительным ориентиром в окружающем пространстве.
Павильон СССР в Париже производил неизгладимое впечатление. Это была зримая победа идеи синтеза искусств - архитектуры и скульптуры.
Б. Иофан смело использовал возможности современной инженерии: металлический каркас, листовую нержавеющую сталь, Электросварку. Советская архитектура сказала новое слово в мировом пластическом искусстве. Длительный спор между функциональной, конструктивной или образной ролью архитектуры разрешился их классическим сочетанием благодаря правильно понятой зодчим социальной задаче.
В 1939-1944 годах по проектам Иофана в Москве осуществлена станция метрополитена «Бауманская», в 1947 - здание лаборатории института физических проблем Академии наук СССР, в 1949 - Нефтяной институт им. Губкина. Еще раньше Иофан участвовал в конкурсе на проект здания Наркомата тяжелой промышленности СССР в Зарядье (1935). Его проект полиграфического комбината и редакции газеты «Известия» в районе Киевского вокзала был принят к осуществлению (1940). Им также разрабатывался проект восстановления и реконструкции Театра им. Евг. Вахтангова (1943), проекты центров Сталинграда (1943) и Новороссийска (1945), проект высотного 32-этажного дома в Москве (1947), Эскизный проект нового здания Московского университета им. Ломоносова на Ленинских горах (1948) и ряд памятников гражданской и Великой Отечественной войн.
Период после начала 50-х годов заполнен в творчестве архитектора решением главным образом градостроительных задач. Активный участник составления Генерального плана реконструкции Москвы 1935 года и автор проекта схемы генерального плана восстановления Новороссийска в 1945 году, он оказался хорошо подготовленным для участия в разработке проблем послевоенного строительства столицы.
В качестве руководителя творческого коллектива одной из мастерских института «Моспроект» Иофан осуществлял проектирование застройки и реконструкции территории Шереметьевской улицы, а также районов северного Измайлова и Сокольников (1955- 1970). Под его руководством спроектированы и построены жилые 16-этажные дома на Щербаковской улице (1962). По проекту Иофана сооружен Государственный центральный институт физической культуры в Измайлове (1964-1974).
Иофан не хочет быть законодателем непреложных правил. Он всегда ищет и варьирует и поэтому скорее готов учиться, чем учить. Но все, что зодчий построил, спроектировал и проектирует, - принципиально. Он постоянно старается анализировать свои работы с точки зрения высоких Задач пластического искусства и обобщить их, прежде всего для себя самого, в виде определенных выводов. Поэтому его выступления на творческих совещаниях и в печати, быть может, иногда дискуссионные, представляют большой интерес для истории и не утрачивают своей актуальности.
Борис Михайлович Иофан – один из крупнейших и лучших советских зодчих — родился в 1891 г. в Одессе. Там же прошло и его детство. Еще мальчиком Иофан увлекается рисованием и решает в будущем стать живописцем. В 12 лет он поступает на живописное отделение художественного училища. Позже, под влиянием товарищей, Иофан переходит с живописного на архитектурное отделение. В 1911 г. он заканчивает училище и получает диплом об окончании курсов и звание техника-архитектора. По отбытии военной службы Иофан практикует в Петербурге подмастерьем у известных архитекторов А.О. Таманяна, И.И. Долгинова, частично работает у своего старшего брата Дмитрия. Изучая произведения русского классицизма, молодой архитектор мысленно все больше обращался к истокам архитектуры.
В 1914 г. Иофан уезжает в Италию, в которой пребывает 10 лет. Окончание художественного училища дало Иофану право поступить сразу на третий курс Высшего института изящных искусств в Риме. Большой след в жизни Иофана оставил архитектор Армандо Бразини, его будущий соперник в конкурсе на проект Дворца Советов в Москве. В 1916 г. Иофан успешно заканчивает Высший институт изящных искусств и начинает работать самостоятельно. Он много строит в Италии (Рим, Аквиль, Тиволи, Тоскана и др.). Затем заканчивает курс в Высшей инженерной школе. В 1921 г. вступает в итальянскую компартию.
В 1924 г. Иофан возвращается в СССР. Его привозит в Москву А.И. Рыков, с которым он познакомился в Риме. Рыков находился в Италии на лечении после перенесенного инфаркта. Он предлагает Иофану строить новую советскую жизнь, новую социалистическую архитектуру – радостную, величественную и помпезную. Иофана заинтересовало это предложение прежде всего потому, что он мечтал строить крупномасштабные общественные сооружения и в реалиях советской действительности ему открывались заманчивые перспективы.
Борис Иофан стал крупной и значимой фигурой советского зодчества. В Москве по его проектам были построены удобные и функциональные жилые дома, общественные и учебные заведения. Первым жилым комплексом, построенным в Москве, стали дома на Русаковской улице (1925 г.) с прекрасной экономичной планировкой квартир и гармоничным экстерьером.
Крупнейшим реализованным замыслом архитектора стал комплекс Дома ЦИК и СНК СССР на Берсеневской набережной (1927-1931). Это сооружение является важной вехой на творческом пути зодчего. Возведенный в эпоху увлечения идеей домов-коммун, этот дом существенно отличался от них. Он содержал в себе, кроме жилья, большое количество пристроенных общественных помещений: клуб с театральным залом (ныне театр Эстрады), самый большой тогда в Европе кинотеатр «Ударник» на 1600 зрителей, универмаг с продуктовым и промтоварным отделениями, столовую, спортзал, библиотеку, механическую прачечную, почту и сберкассу. Дом имел на себе отпечаток времени, выраженный в аскетизме внешнего облика. Тогда господствовал строгий и лаконичный конструктивизм, отличительными чертами которого были простые, логически геометризованные формы. Мрачно-серые стены создавали впечатление несокрушимой мощи, подавляющей своим величием, что явно выделяло это сооружение среди построек позднего конструктивизма и, очевидно, должно было вносить в архитектурный образ дома некий признак могущества и несокрушимости власти, которой он принадлежал. Некоторое разнообразие в это вносили фонтаны, размещенные архитектором во внутренних дворах комплекса, в память о его пребывании в Италии.
На участке более трех гектар, ограниченном Берсеневской набережной, улицей Серафимовича и обводным каналом, на трех с половиной тысячах свай было возведено около полумиллиона кубометров жилой и общественной площади, что даже по сегодняшним масштабам является огромным строительством. В доме было 505 квартир, в которых было все для удобного проживания. Дом Правительства был первым и последним объектом элитного жилья, к которому применимо определение — простой, аскетичный объем. Все, последовавшие за ним, дома для советской элиты были тесно связаны с изменившейся творческой направленностью советской архитектуры, взявшей курс на освоение классического наследия.
Главной темой творчества Бориса Иофана было проектирование монументально-грозного и величественного Дворца Советов, который должен был встать практически напротив «Дома на набережной» на месте взорванного в декабре 1931 года Храма Христа Спасителя. Идея создания ДС была предложена С.М. Кировым в 1922 г. на первом Всесоюзном съезде Советов. Выигравший на Международном конкурсе проект архитекторов Б. М. Иофана, акад. В.А. Щуко и проф. В.Г. Гельфрейха был одобрен Правительством в 1934 г., а окончание сооружения по постановлению XVIII съезда партии намечалось на 1942 г.
Размеры здания потрясали всякое воображение – высота 416 метров, вес 2 млн. тонн, общий объем 7 млн. кубометров, что примерно равнялось сумме объемов 6 (!) знаменитых нью-йоркских небоскребов.
Разработка проекта продолжалась до конца 1930-х годов. Строительство было начато в 1937 г., и к 1939 г. были закончены фундаменты высотной части постройки. В 1940 — первой половине 1941 гг. началась установка стального каркаса, для которого была разработана специальная высококачественная сталь с маркировкой «ДС». Для строительства Дворца Советов был создан Московский камнеобрабатывающий комбинат, благодаря которому впоследствии одета в гранит была вся Москва (мосты, высотные дома, новый Храм Христа Спасителя, метро). «Дворец Советов будет стоять точно таким же, каким мы увидим его в ближайшие годы. Столетия не оставят на нем своих следов. Мы выстроим его таким, чтобы он стоял, не старея, вечно», — писал Н. Атаров.
После войны стало ясно, что с таким огромным проектом не справиться. Кроме того, в облике Дворца необходимо было увековечить и победу в войне. Работа коллектива под руководством Иофана была продолжена: предлагалось множество решений, в том числе и уменьшение высоты здания. Проектирование прервал объявленный в 1956 г. Всесоюзный конкурс на новый проект ДС, сооружение которого предполагалось на юго-западе столицы, но так же не было осуществлено. Последний гвоздь в гроб ДС был забит в 1957 г., когда станцию метро «Дворец Советов» переименовали в «Кропоткинскую». На фундаментах ДС был построен самый крупный в Европе открытый бассейн «Москва».
Борис Михайлович, будучи автором такого гиганта, высказывал мысль о поддержке этой мощной вертикали зданиями-спутниками, которые придавали бы Москве силуэт не плоскостного города, а города с живописным высотным силуэтом. Дело в том, что в начале 20-х — конце 30-х гг. XX века в Москве было снесено огромное количество церквей и колоколен, которые выражали собой очень красивый «живой» силуэт. В связи с разрушениями Москва его утратила и превратилась практически в «плоскостной», «целинный» город. Поэтому роли высотных зданий, поддерживающих доминанту ДС, придавалось огромное значение. Помимо рельефной, идеологической, они выполняли также и топографическую функцию. Каждое здание являло собой ориентир в городской среде. Таким образом, появлению высотных зданий мы обязаны и Иофану.
В то время упорно продвигалась перспектива развития Москвы на юго-запад (в частности, Воробьевы горы). Это очень выгодная точка, работающая на всю Москву. Недаром именно на Воробьевых горах архитекторы хотели осуществить свои самые масштабные и грандиозные проекты (Л. Витберг – Храм Христа Спасителя, Н. Ладовский – Красный стадион, И. Леонидов – Институт библиотековедения им. Ленина). Первой и самой грандиозной из всех высоток утвердили здание гостиницы на Воробьевых горах (позже проект трансформировали в здание МГУ, но идея, заложенная в нем изначально, сохранилась). Эту работу поручили Иофану, так как он возглавлял трест по строительству высотных сооружений (Управление ДС). Чтобы подчеркнуть масштабность здания и его влияние на город, Иофан проектирует его над самой бровкой Москва-реки, то есть у самого края Воробьевых гор. Такое решение не понравилось Сталину, но Иофан долго и упорно продолжал его отстаивать. Это было роковой ошибкой. В 1947 г. проект Иофана передают коллективу во главе с ленинградцем Львом Рудневым. Здание построили в первоначально установленные сроки (открытие 1.09.1953 г.) практически в задуманном Иофаном виде. Много позже ответственный секретарь комиссии по строительству ДС, друг и соратник Бориса Иофана, автор замечательной монографии об архитекторе Исаак Эйгель рассказывал, что проект не утвердили потому, что под выбранным Иофаном местом проходили важные правительственные коммуникации.
Третьим наиболее значимым сооружением в биографии мастера был великолепный, поразивший весь мир своей мощью и колоритом, динамикой и порывом, своей внутренней энергией павильон СССР на Международной выставке в Париже 1937 г.. На выставке павильоны СССР и Германии располагались один против другого, демонстрируя политическую конфронтацию двух держав в пространственном образе. Они были похожи на двух боксеров, готовых сойтись в смертельной схватке. Советский павильон уже строился, когда автор павильона Германии Альберт Шпеер только приступал к проекту. Подкупив французских служащих, он проник в помещение, где работал Иофан. Шпеер писал: «При посещении Парижа я случайно забрел в помещение, где находился скрывавшийся в тайне проект советского павильона. На высоком пьедестале триумфально шагали две фигура, как бы наступая на наш павильон. Тогда я запроектировал кубическую массу, расчлененную тяжелыми пилонами, которая должна была казаться останавливающей этот натиск, в то время как с карниза взирал сверху вниз на русскую пару орел со свастикой в когтях». В этом тексте интересно описание не только формы («кубическая масса»), в которую выливалось соперничество, но и явно казавшееся Шпееру естественным перенесение соревновательности за пределы формирования художественных ценностей и культурных значений. В сопоставлении павильонов у Шпеера преобладали мотивы, связанные с политической конфронтацией. Показательно, что оба архитектора – Иофан и Шпеер – получили Золотые медали от организаторов, озабоченных тем, чтобы сохранить мир и не создавать напряжение между двумя могущественными государствами. Бросалось в глаза похожесть архитектурного облика павильонов, их мощный демонстративный характер. Наш павильон безусловно был лучше. Это было сооружение, запроектированное на одном дыхании, реализация первоначального эскиза, что для «вариантщика» Иофана было скорее всего единственной постройкой такого рода. «Неудержимый динамизм художественного решения», «сгусток рвущейся вперед и вверх энергии», «символ нового мира» – так отзывались о павильоне. Это была победа, триумф, радость. «Этот экспонат останется в памяти участников ЭКСПО-37 так же, как Эйфелева башня на этой же выставке 1889 года» (Д. Аркин). Павильон Иофана – воплощение единого целого двух искусств. Архитектура и скульптура сливались воедино. Вера Мухина говорила: «Тут надо было найти такое равновесие и соподчинение, чтобы здание и скульптура одно без другого не могли существовать… Торжественную поступь (придуманную Иофаном), я превратила во всесокрушающий порыв». Много труда, сил, нервов стоила Вере Игнатьевне ее скульптура. При ее установке в 1939 г. на 10-метровый постамент перед главным входом на ВСХВ скульптура во многом проиграла. Ведь павильон был высотой в 24 метра. «Статуя ползает по земле, все точки зрения и композиционные эффекты уничтожены», — негодовала Мухина. Оба – Иофан и Мухина — переживали это до конца своих дней и добивались установки скульптуры на более высоком уровне. А павильон СССР до сих пор стоит в Париже.
Смерть настигла Бориса Иофана за чертежной доской, на которой была наколота калька с эскизом пьедестала скульптуры «Рабочий и колхозница». Это случилось в марте 1976 года.
Почти полвека он шел рука об руку со своим другом, супругой и музой Ольгой Фабрициевной Иофан. После ее смерти он вспоминал о ней самыми теплыми словами: «Есть люди, которые не занимаются непосредственно творческой работой, по их проектам не сооружаются дома, они не делают открытий в науке, но у них есть замечательный талант строить жизнь других, создавать атмосферу для большой творческой работы. Таким талантом обладала Ольга Фабрициевна…».
В основу материала легла следующая литература:
1. И.Ю. Эйгель, «Борис Иофан», М. 1978 г.
2. О.П. Воронова, «В.И. Мухина», М. 1976 г.
3. Материалы научной конференции «Випперовские чтения – 1996», М. 1996 г.:
—А.В. Иконников, «Утопия в архитектуре между двумя мировыми войнами»
—Б. Шульц, «Особый случай» или логика развития?»
4. Н.Ш. Сагоян, «Иллюстрированный словарь архитектурных терминов и понятий», Волгоград, 1999 г.
5. П.А. Дружинин, «Дворец Советов. Проект академика Щусева», М. 2001 г.
6. Н.С. Атаров, «Дворец Советов», М., 1940 г.
7. И.С. Чередина, «Московское жилье конца XIX – начала XX века», М. МАРХИ, 2004 г.
8. М.П. Коршунов, В.Р. Терехова «Тайны и легенды Дома на набережной», М. «Слово», 2002 г.
9. Лекционные материалы ГНИМА им. А.В. Щусева
Сергей Баклашов
Здания, спроектированные Б.М. Иофаном
1925 г. — Русаковская ул., 4 (9 трехэтажных секционных дома);
1927 г. — Московская сельскохозяйственная Академия им. Тимирязева
(ул. Верхняя, 4а, химический факультет и 12-й учебный корпус);
— опытная станция при Химическом институте, ул. Обуха, 10;
1928-31 гг. — 1-й Дом ЦИК и СНК СССР («Дом на набережной»);
1929-34 гг. — санаторий «Барвиха»;
1931 г. — проект Дворца Советов;
1937 г. — павильон СССР на Международной выставке в Париже
(скульптор – В. Мухина);
1939 г. — павильон СССР на Международной выставке в Нью-Йорке;
1938-44 гг. — станция метро «Бауманская»;
1944-47 гг. — лабораторный корпус Института физических проблем АН СССР;
лаборатория академика П.Л. Капицы;
— реконструкция и восстановление Театра Вахтангова;
— проект восстановления городов Новороссийска и Сталинграда;
1947-48 гг. — работа над проектом высотных зданий, нового здания МГУ;
1962 г. — Институт физической культуры (Сиреневый бульвар, 4) – последний дом, построенный Иофаном.
Иофан Борис Михайлович
16 апреля 1891 года в Одессе родился Борис Михайлович Иофан - одна из самых ярких и значительных фигур в советском зодчестве 30-40-х годов прошлого века, автор известных сооружений, единственный одессит, удостоенный звания «Народный архитектор СССР»
Всемирно известные павильоны СССР на международных выставках 1937 года в Париже и 39-го - в Нью-Йорке, монументальные здания и градостроительные комплексы в Москве, жилые и общественные сооружения в Италии - далеко не полный перечень вех в грандиозном наследии, оставленном на всех этапах советской архитектуры Борисом Михайловичем Иофаном. Еще мальчиком Борис увлекся рисованием и твёрдо решил в будущем стать живописцем. В 12 лет он поступает на живописное отделение Художественного училища Одесского общества искусств, действовавшего по программам, санкционированным Петербург-ской Академией художеств, которой принадлежало и право подбора педагогического персонала этого учебного заведения. Выпускники одесского училища имели право поступления в академию без экзаменов на основании лишь месячного испытания. Позже, под влиянием товарищей, Иофан переходит на архитектурное отделение. Сказалось то, что ещё в ранней юности он испытал очарование таких сооружений как Воронцовский дворец, Старая биржа, бывший госпиталь, ощутил законченность ансамблей Приморского бульвара и полукруглой площади со знаменитой лестницей...
В 1911 году Иофан заканчивает училище, получив диплом об окончании курсов и звание техника-архитектора. Начало творческой биографии мастера было необычным. Отслужив вольноопределяющимся в Феодосийском полку, Борис Иофан переезжает в Петербург, где практикуется подмастерьем у известных архитекторов А.О. Таманяна, И.И. Долгинова, работает у своего старшего брата Дмитрия, участвует в проектировании московского дома князя Щербатова на Новинском бульваре, признанного в 1914 году лучшей новостройкой будущей столицы. Изучая произведения русского классицизма, молодой архитектор мысленно все больше обращался к истокам архитектуры. Затем в судьбе Иофана свершается крутой поворот - он уезжает в Италию, на «родину муз», где пребывает долгих десять лет. Здесь начинается творческая карьера зодчего. Окончание художественного училища дало Иофану право поступить сразу на третий курс Высшего института изящных искусств в Риме. Большой след в жизни Иофана оставил архитектор Армандо Бразини, его будущий соперник в конкурсе на проект Дворца Советов в Москве. В 1916 году Иофан успешно заканчивает Высший институт изящных искусств и начинает работать самостоятельно. Он много строит в Италии (Рим, Аквиль, Тиволи, Тоскана, Перуджа и др.). Затем заканчивает курс в Высшей инженерной школе, позволявший в дальнейшем со знанием дела разбираться в вопросах строительной механики и организации строительного производства. В Риме Борис Михайлович познакомился со своей будущей женой Ольгой Огаревой, по отцу итальянской герцогиней Руффо, по матери русской княжной Мещерской. В 1918 году они соединили жизни и оказались почти на полвека не только верными супругами, но и единомышленниками. Ольга Иофан, хорошо знавшая искусство Италии, стала проводником молодого архитектора по музеям и галереям, среди памятников античности и Возрождения, не потерявшим впечатляющей красоты вопреки разрушающему воздействию времени. В 1921 году, когда мутная волна фашизма затопила страну, супруги вступили в Итальянскую компартию и превратились в ее активных функционеров. В том же году они продали свою библиотеку, а вырученные деньги отправили в Россию в помощь голодающим Поволжья. В одной из автобиографических заметок, незадолго до своей кончины, Б.Иофан писал: «Есть люди, которые не занимаются непосредственно творческой работой, по их проектам не сооружают дома, они не делают открытий в науке, но у них есть замечательный талант строить жизнь других, создавать атмосферу для большой творческой работы. Таким талантом обладала Ольга Фабрициевна...».
Он - сын одесского швейцара, она - итальянская герцогиня по отцу и русская княжна по матери. Борис Иофан и Ольга Сассо-Руффо могли никогда не встретиться.
Биография просится на экран -http://www.lechaim.ru/ARHIV/140/kipnis.htm
Прогулки по Новодевичьему Соломон Кипнис
С каждым новым материалом, который удавалось разыскать для написания новеллы, – ее название тогда еще не придумалось, а рабочее было –
«Иофан Борис Михайлович (1891–1976)», крепло убеждение, что жизненная и творческая биография этого выдающегося архитектора может быть заявкой на увлекательный художественно-документальный фильм.
В таком заявочном, «лохматом» стиле и написана новелла (прошу ее считать моей заявкой).
***
...В Петербурге в 1911-м успешно заканчивает Академию художеств и получает звание архитектора Иофан Дмитрий Михайлович (1885–1961). Ему в работе помогает младший брат Борис, который прошел курс обучения в Художественном училище Одесского общества искусств.
По мнению педагогов, Борис весьма одарен и желательно, чтобы он продолжал совершенствоваться. И старший брат, преодолев финансовые затруднения, отправляет Бориса в 1914 году учиться за границу.
Сначала тот попадает в Париж, затем в Италию. Позади учеба в Высшем институте изящных искусств и в Высшей инженерной школе в Риме. Появляются жилые дома, построенные по проекту архитектора Бориса Иофана. Участвует он и в политической жизни, становится членом итальянской компартии.
***
...Итальянский дипломат герцог Сассо– Руффо знакомится в Петербурге с княгиней Мещерской, которая становится его женой и матерью их дочери Ольги. Проходят годы, и Ольга выходит замуж за полковника русской армии Б.Б. Огарева (внучатый племянник революционера Н.П. Огарева).
Семейная жизнь у них не складывается, и она с двумя детьми – Ольгой и Борисом – покидает Париж и уезжает в Рим, к своему дяде, графу Строганову. С его помощью покупает виллу на окраине Рима и живет на деньги за сдаваемые комнаты.
...Один из постояльцев герцогини Руффо становится ее мужем. Это – Борис Иофан.
***
...1924 год. В Рим на лечение приезжают инкогнито председатель Совета Министров СССР А.И.Рыков с женой.
Советское посольство просит Иофана познакомить «этих иностранцев» с Римом. Общение с главой советского правительства окончательно убеждает Иофана вернуться в Россию.
***
...В Москве, на ул. Серафимовича, в 1931 году закончилось строительство жилого Дома правительства (ЦИК и СНК СССР) по проекту архитектора Б.М. Иофана (совместно с Д.М. Иофаном).
Очень мало найдется сегодня москвичей, которым это название что-то скажет. Но стоит произнести утвердившееся за ним после выхода романа Ю.В.Трифонова «Дом на набережной» это его неофициальное название, и сразу становится ясно, о чем идет речь.
«Дом на набережной» – это уникальный по своей грандиозности и масштабам жилой комплекс: несколько 10–11-этажных зданий с пятьюстами квартир для видных государственных, политических и общественных деятелей, военачальников, работников культуры.
Чего только не было в этих зданиях: детсад, ясли, спортивные залы, библиотека, столовая, прачечная, амбулатория, универмаг, отделение связи, сберкасса, клуб, ставший потом Театром эстрады, наконец, кинотеатр «Ударник», который еще совсем недавно числился самым крупным в Москве – 1500 мест.
Б.М. Иофан с женой и двумя ее детьми – удочеренной им Ольгой и усыновленным Борисом заняли в этом доме одну из квартир, переоборудованную для его работы под мастерскую.
Сталинские репрессии как мясорубка перемалывали жильцов этого дома. И сегодня только в одной квартире из 500 живут потомки тех, кто занимал ее изначально: в квартире Иофана живет семья его внука! 
***
На конкурсе (1931–1933) проектов Дворца Советов, который должен появиться на месте взорванного храма Христа Спасителя, высшую премию получает Б.М.Иофан. Его проект принят к исполнению. Строительство Дворца Советов – грандиозного здания-пьедестала высотой 415 м под статую 80 метрового Ленина – прервала начавшаяся война.
Многие значительные конкурсы на общественные сооружения заканчиваются победой Иофана. В 30-е годы он в фаворе у Сталина. 14 раз (!) встречался архитектор с вождем.
Иофан – автор павильона СССР на Всемирной выставке в Париже (1937), который венчала исполинская скульптура «Рабочий и колхозница», выполненная В.Мухиной по рисунку... самого Иофана.
Иофан – автор павильона на Всемирной выставке в Нью-Йорке (1939).
Лебединой песней прославленного архитектора дожно было стать здание Московского университета на Воробьевых горах. Но не стало...
Энциклопедии, путеводители дружно сообщают, что Московский университет построен по проекту архитектора Л.В. Руднева.
А вот что поведала своим читателям газета «Известия» (04.01.2001).
«...В 1949 году в Москве было заложено высотное здание МГУ. Автором первого проекта был архитектор Иофан Борис, однако он отважился поспорить с самим Сталиным по поводу местоположения новой высотки. В результате право возводить МГУ передали одному из учеников Бориса Иофана – Льву Рудневу, который практически весь проект своего учителя оставил без существенных изменений. Так что фактический автор проекта здания МГУ отнюдь не Руднев, как сообщают справочники, а Иофан».
Если из этой заметки убрать вымысел (его там предостаточно) и оставить правдивую и уточненную информацию, то получится: автором утвержденного эскизного проекта был Иофан. Он отважился поспорить с самим Г.М.Поповым, секретарем МК и МГК ВКП(б), секретарем ЦК ВКП(б), а не со Сталиным!
Иофан действительно настаивал на том, чтобы здание МГУ поставить на 300 метров ближе к бровке реки по сравнению с местом, где оно расположено сейчас.
Бескомпромиссность архитектора обошлась ему неожиданно дорого: Сталин подписал распоряжение передать руководство всеми дальнейшими работами архитектору Л.В. Рудневу. (Руднев не был учеником Иофана, это газетная выдумка.)
Руднев с коллективом архитекторов, взяв за основу всесторонне разработанный Иофаном технический проект, довели работу до полного завершения, за что и получили Сталинскую премию.
А Иофан? Ничего!
Когда речь идет о сооружении высотного здания МГУ, его имя даже не упоминается, хотя правда такова: здание МГУ на Ворбьевых горах построено по проекту Б.М. Иофана и Л.В. Руднева.
И после этой трагической для Иофана истории по его проектам было построено не одно здание. Но знаменитым сделали его не они.
Знаменитым, и даже очень, он уже был. И неудивительно, что когда в 1970 году учредили почетное звание «Народный архитектор СССР» , в числе первых, получивших его, значился Б.М. Иофан.
***
...4 марта 1976 года врач санатория «Барвиха», построенного тоже по проекту Иофана, обходя палаты, увидел его, лежащего без сознания в кресле у чертежной доски. Через 6 дней, не приходя в сознание, Иофан скончался.
Проекты ТАЛАНТЛИВОГО АРХИТЕКТОРА
Дом на набережной
1925 - здание на Русаковской улице, 7
1927 - Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева, Административный корпус, Колхозный корпус
1928-1931 - работа над 1-м Домом Советов ЦИК и СНК СССР (Дом Правительства, «Дом на набережной»)
1931 - проектирование здания Дворца Советов
1935 - корпуса Санатория Лечебно-санитарного управления Кремля «Барвиха» (ныне ФГУП УДП РФ клинический санаторий «Барвиха»)
1937 - павильон международной выставки в Париже и идея скульптуры В. Мухиной «Рабочий и колхозница» - павильон-цоколь по проекту Иофана в настоящий момент восстановлен на ВВЦ
1939 - советский павильон выставки в Нью-Йорке
1938-1944 - станция метро «Бауманская»
1944-1947 - лаборатория академика П. Л. Капицы.
Реконструкция и восстановление Театра им. Евгения Вахтангова
1947-1948 - проекты сталинских высоток, здания Университета
1957 - Центральная клиническая больница с поликлиникой Управления делами Президента РФ
1962-1975 - комплекс жилых домов в Москве на Щербаковской улице (дома № 7, 9, 11; соавторы Д. Алексеев, Н. Челышев, А. Смехов)
1972 - Институт физкультуры (последний осуществлённый проект)

Плита колумбария Иофана на Новодевичьем кладбище Москвы