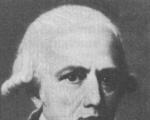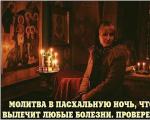За что фриш получил нобелевскую премию. За какое открытие австрийский ученый Карл фон Фриш получил Нобелевскую премию
Наш герой - один из немногих нобелевских лауреатов, кто не был ни физиком, ни химиком, ни медиком, ни физиологом. Но премию получил по физиологии и медицине. Он - этолог, изучавший поведение пчел. Впрочем, открытие в биохимии он всё-таки совершил, одним из первых найдя новый функциональный класс соединений - феромоны. Но премию получил не совсем за это. Формулировка Нобелевского комитета: «за открытия, связанные с созданием и установлением моделей индивидуального и группового поведения животных». Итак, знакомьтесь - Карл фон Фриш.
Карл фон Фриш.
Родился 20 ноября 1886 г. в Вене, Австрия.
Умер 12 июня 1982 г. в Мюнхене, ФРГ.
Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1973 года (1/3 премии, совместно с Конрадом Лоренцем и Николаасом Тинбергеном).
Нобелевская премия по физиологии и медицине 1973 года, без сомнения, самая уникальная премия в истории этой номинации. Даже премия хирургу Кохеру, о которой мы писали , не столь уникальна; была еще премия Алексису Каррелю за сосудистый шов. Но как ни крути, премия Карлу фон Фришу, Конраду Лоренцу и Николаасу Тинбергену «за открытия, связанные с созданием и установлением моделей индивидуального и группового поведения животных» не лезет ни в какие ворота. Этология? Не было такого в истории. Зоология? Тоже не было до Лоренца с утятами и Фриша с пчелами. Нет, конечно, могло случиться сопоставимое в интервале с 1915 по 1938 годы, когда на премию 32 раза номинировали Зигмунда Фрейда (кстати, знаете ли вы, что еще один раз старик Фрейд был номинирован на... литературного «нобеля» - в 1936 году, Роменом Ролланом?) . Но тогда не срослось...
Несостоявшийся нобелиат по физиологии или медицине и по литературе
Еще один важный момент. Не так много есть лауреатов Нобелевской премии, которые предопределили дальнейшую жизнь автора поста. О Роберте Вудворде мы уже писали . А вот книга нашего сегодняшнего героя, Карла фон Фриша, «Из жизни пчел» , изданная в СССР тогда, когда мне было всего пять лет, стала одной из тех немногих, которые подтолкнули меня к науке. Кстати, это издание 1980 года вышло еще при жизни Фриша. А первое издание на немецком появилось... внимание, за ПЯТЬДЕСЯТ ТРИ ГОДА до этого, в 1927 году в Гейдельберге. Поистине, книга века!
«Жизнь пчел подобна волшебному колодцу. Чем больше из него черпаешь, тем обильнее он наполняется», - это из седьмого издания. Но - обо всём по порядку.
Наш герой родился в Вене, в научной среде. Его отец, Антон фон Фриш (часто можно встретить полное имя Антон Риттер фон Фриш, но «риттер» - это аналог английскому knight, то есть «рыцарь», что говорит о благородном титуле) был урологом и профессором Венского университета. Антон фон Фриш считался заметной величиной в науке и прославился тем, что в 1882 г. идентифицировал возбудителя риносклеромы - гранулематозного заболевания носа (рис. 1).
Рисунок 1. Больная риносклеромой. Риносклерома (склерома) - хроническое гранулематозное заболевание носоглотки, предположительно вызываемое энтеробактерией Klebsiella rhinoscleromatis - палочкой Фриша, как ее еще называют (в честь Антона фон Фриша). Начало болезни напоминает затяжной насморк, затем в слизистой оболочке носовой полости и коже носа формируются узловые инфильтраты, которые могут изъязвляться и кровоточить, а впоследствии рубцеваться и деформировать нос. Процесс может переходить на другие части лица и «спускаться» до бронхов, а в особо запущенных случаях осложняться сепсисом. Склерома считается тропической болезнью, однако встречается и в европейских странах. Механизмы заражения до конца не изучены, но, судя по всему, требуется ингаляция приличного количества возбудителя. Базис лечения - антибиотики (тетрациклины и фторхинолоны).
Мама же, Мария Экснер (рис. 2), была дочкой известнейшего австрийского философа и реформатора тогдашнего школьного образования, Франца Серафина Экснера.
Рисунок 2. Мария фон Фриш (урожд. Экснер, 1844–1925).
Бабушка Карла, Шарлотта Дузензи, принадлежала к одной из самых влиятельных семей Австро-Венгрии. У Марии было четверо братьев - и все тоже стали известными людьми. Об одном из них чуть ниже, а вот самый младший брат, Франц Серафин Экснер (рис. 3), стал известным австрийским физиком, спектроскопистом и ректором Венского университета.
Рисунок 3. Франц Серафин Экснер (1849–1926). Австрийский физик, с 1908 г. - ректор Венского университета. Вывел на новый уровень австрийскую физику, занимаясь радиоактивностью, спектроскопией, гальваническими элементами, атмосферным электричеством и теорией цвета. Работал с Вильгельмом Рентгеном, воспитал много великих физиков, включая нобелевских лауреатов Виктора Гесса и Эрвина Шрёдингера.
В семье фон Фришей было четыре сына (Карл - младший из них), и, что интересно, все они в итоге стали профессорами. Карл с детства любил возиться со всякими букашками и травинками, благо жил профессор фон Фриш за городом, на озере Вольфганг. Пишут, что будущий нобелиат даже печатался в различных натуралистских журналах.
Учился мальчик в «Шоттенгимназиуме» - некоем подобии средней школы при бенедиктинском монастыре в Вене. У Карла была мечта - закончить школу и удрать куда-нибудь с научной экспедицией, чтобы исследовать животных и открывать новые виды. Но, разумеется, папа был против. Папа хотел, чтобы все дети стали профессорами-медиками, а как стать профессором в экспедиции?
Пришлось идти в медицинскую школу (по-нашему - на медицинский факультет) Венского университета. Тем более что там тоже были свои люди - дядя Зигмунд Экснер (рис. 4), брат мамы Карла. Известный физиолог, ученик Гельмгольца, между прочим, автор одного из первых руководств по микроскопии.
Рисунок 4. Зигмунд Экснер (1846–1926). Австрийский физиолог, известный благодаря работам по сравнительной физиологии и психологии восприятия (его физиологическим основам). Объяснил принцип работы фасеточного глаза насекомых и ракообразных.
Так что Карлу пришлось заняться изучением распределения пигмента в зрительных клетках - жуков, бабочек и креветок. Впрочем, юный Фриш всё равно сбежал - в Зоологический институт Мюнхенского университета, где занялся этологией, наукой о поведении.
Поработав под началом известного зоолога Рихарда фон Гертвига, он вернулся в Венский университет, где получил степень доктора философии. Работа, ставшая его диссертацией, оказалась очень любопытной.
В начале XX века считалось, что ни рыбы, ни беспозвоночные цвета не различают. Экспериментируя на рыбах, Фриш сумел натренировать особей гольяна по-разному реагировать на разные цвета. На этой почве случилась научная ссора Фриша со старым и авторитетным офтальмологом Карлом фон Гессом (1860–1923), который придерживался другого мнения и пытался дискредитировать работу Фриша. Впрочем, потом Фриш решил: нападки Гесса - это хорошо, больше ученых узнают о его работе.
Но рыбы - это рыбы. Как говорится, с ними и правда не всё однозначно на первый взгляд. Но, будучи дарвинистом, Фриш понимал - у пчел точно должно быть цветное зрение, всё-таки их пища - в цветках. В 1912 году Фриш возвращается в Мюнхенский университет и начинает экспериментировать с пчелами.
Доказать, что пчелы различают цвета, оказалось достаточно просто: сначала еду клали на квадрат определенного цвета, и весьма быстро пчелы садились на этот квадрат и без пищи, и если этот квадрат меняли местами с квадратами других цветов...
Дальше была война. Всем стало не до пчел. У Фриша было слабое зрение, и поэтому фронт его миновал. Однако медицинское образование напоминало о себе, и Фриш до 1919 года работал в военном госпитале около Вены. Именно в этот период, кстати, он женился - на медсестре и художнице Маргарет Мор; она потом иллюстрировала сборники его лекций. В январе 1919-го Фриш вернулся в институт, и именно в том году он сделал главное свое открытие, принесшее ему Нобелевскую премию через 54 года.
Он пометил краской несколько рабочих пчел и изучал поведение пчелы, которая нашла пищу и вернулась в улей.
Предоставим слово самому Фришу: «Я едва мог поверить своим глазам, когда она исполнила круговой танец на медовых сотах, чем привела в сильнейшее возбуждение находящихся рядом с ней пчел, помеченных краской, которые немедленно полетели к месту кормёжки... Это было, как я думаю, наиболее важное наблюдение в моей жизни, во всяком случае, имеющее самые далеко идущие последствия».
Фриш изучал танец пчел всю свою жизнь. Он узнал, что этот танец разнообразен: если пища близко, то танец круговой, если далеко (дальше 85 м) - «вихляющий», в виде восьмерки. Узнал, что танцем пчелы указывают угол между местонахождением пищи и солнцем и что при переменной облачности пчелы ориентируются по плоскости поляризации света от просветов чистого неба ...
Впрочем, это не помешало ему сделать важное открытие и в химии пчелиной жизни. Именно Фришу принадлежит честь открытия феромонов пчел - органических веществ, выделение которых железами пчелиной матки регулирует поведение рабочих пчел и трутней, а также сигнализирует об опасности.
Надо сказать, что сам Фриш не знал, что изучает феромоны: он называл систему химической сигнализации у пчел системой «тревожных веществ» (alarm substances). Термин «феромоны» появился лишь в 1959 году и образован словами «фереин» - транспортировать (то же самое «фер» в слове «Люцифер» - несущий свет) - и «гормон».
Сейчас известно достаточно много феромонов пчел: основными считаются транс-9-кето-2-дециновая кислота, стерилизующая рабочих пчел, и транс-9-окси-2-дециновая кислота, которая регулирует роение. Не говоря уже о сотнях феромонов других животных, которые стали известны в последней трети XX века - а ведь Фриш узнал об их существовании на десятилетия раньше .
Фриш прожил достаточно долгую жизнь - для того, чтобы дожить до своей Нобелевской премии. Правда, сам он уже не присутствовал на церемонии. Ему было 87 лет, и награду принимал сын Фриша, Отто.
Представлявший номинантов профессор Берг Кронхольм из Каролинского медико-хирургического института, сказал: «Поведение животных очаровывало человека с незапамятных времен - об этом свидетельствует обилие животных в мифах, сказках и баснях. Однако слишком долго человек пытался понять его на основе собственных представлений, на основе собственного образа мыслей, чувств и действий. Описание по этому принципу может быть довольно поэтичным, но оно ни в коей мере не расширяет наши знания о животных».
Карл фон Фриш со своими подопечными.
Закончить же свой рассказ о великом Фрише мне тоже хотелось бы цитатой из... предисловия. К первому изданию его книжки «Из жизни пчел». Мне кажется, эти слова должны быть в памяти каждого исследователя: «Если естествоиспытатель будет пользоваться слишком сильными увеличительными стеклами, рассматривая простые вещи, то может случиться так, что за оптическими приборами он не увидит самой природы. Нечто подобное произошло лет двадцать назад с одним почтенным ученым, когда он, изучая в лаборатории способность животных воспринимать цвета, пришел к твердому и, казалось бы, хорошо обоснованному убеждению, что пчелы цветов не различают. Это натолкнуло меня на мысль ближе заняться изучением их жизни. Ведь всякий, кому приходилось в природных условиях наблюдать биологическую взаимосвязь между пчелами и цветами с их великолепно окрашенными венчиками, подумает, что скорее ученый мог допустить ошибку в своих выводах, чем природа - подобную несообразность» .
Следить за обновлениями нашего блога можно и через его
Нобелевская премия по физиологии и медицине 1973 года, без сомнения, самая уникальная в истории этой дисциплины. Даже премия хирургу Кохеру, о которой я писал , не столь уникальна, была еще премия Алексису Каррелю за сосудистый шов. Как ни крути, премия Карлу фон Фришу, Конраду Лоренцу и Николасу Тинбергену «за открытия, связанные с созданием и установлением моделей индивидуального и группового поведения животных» не лезет ни в какие ворота. Этология? Не было такого в истории. Зоология? Тоже не было до Лоренца с утятами и Фриша с . Нет, конечно, могло случиться сопоставимое в интервале с 1915 по 1938 годы, когда на премию 32 раза номинировали Зигмунда Фрейда (кстати, еще один раз старик Фрейд был номинирован на литературного «нобеля» в 1936 году, Роменом Ролланом, но тогда не срослось).
Ещё один важный момент. Не так много есть лауреатов нобелевской премии, которые предопределили мою дальнейшую жизнь (еще об одном, Роберте Вудворде , я уже писал). А вот книга нашего сегодняшнего героя, Карла фон Фриша, «Из жизни пчёл», изданная в СССР тогда, когда мне было всего пять лет, стала одной из тех немногих, которые подтолкнули меня к науке. Кстати, издание 1980 года вышло еще при жизни Фриша. А первое издание на немецком появилось за пятьдесят три года до этого, в 1927 году в Гейдельберге. Поистине, книга века!
« Жизнь пчел подобна волшебному колодцу. Чем больше из него черпаешь, тем обильнее он наполняется» – это из седьмого издания. Но обо всём по порядку.
Карл фон Фриш (Karl von Frisch) родился в Вене, в научной среде. Его отец, Антон фон Фриш (часто можно встретить полное имя Антон Риттер фон Фриш, но «риттер» – это аналог английского knight, то есть «рыцарь», что говорит о благородном титуле) был урологом и профессором венского университета. Антон фон Фриш считался заметной величиной в науке и прославился тем, что идентифицировал возбудителя риносклеромы – гранулематозного заболевания носа. Мама ученого, Мария Экснер, была дочкой известнейшего австрийского философа и реформатора тогдашнего школьного образования, Франца Серафина Экснера. Бабушка Карла, Шарлотта Дузензи, принадлежала к одной из самых влиятельных семей Австро‐Венгрии. У Марии было четверо братьев – и все тоже стали известными людьми. Об одном из них чуть ниже, а вот самый младший брат, Франц Серафин Экснер, стал известным австрийским физиком, спектроскопистом и ректором Венского университета.
В семье фон Фришей было четыре сына (Карл был младшим), и, что интересно, все они, в итоге, стали профессорами. Карл с детства любил возиться со всякими букашками и травинками, благо жил профессор фон Фриш за городом, на озере Вольфганг. Пишут, что будущий нобелиат даже печатался в различных натуралистских журналах.
Учился мальчик в «Шоттенгимназиуме» – некоем подобии средней школы при бенедиктинском монастыре в Вене. У Карла была мечта – закончить школу и удрать куда‐то с научной экспедицией, исследовать животных, открывать новые виды. Но, разумеется, папа был против. Папа хотел, чтобы все дети стали профессорами‐медиками, а как стать профессором в экспедиции? Пришлось идти в медицинскую школу Венского университета (по‐нашему – медицинский факультет). Тем более, что там тоже были свои люди – дядя Зигмунд Экснер, брат мамы Карла. Известный физиолог, ученик Гельмгольца, между прочим, автор одного из первых руководств по микроскопии.
 Фото: derstandard.at.
Фото: derstandard.at.
Так что Карлу пришлось заняться изучением распределением пигмента в зрительных клетках – жуков, бабочек и креветок. Впрочем, юный Фриш всё равно сбежал – в Зоологический институт Мюнхенского университета, где занялся этологией, наукой о поведении.
Введение в этологию за 10 минут.
Поработав под началом известного зоолога Рихарда фон Гертвига, он вернулся в Венский университет, где защитил степень доктора философии. Работа, ставшая его диссертацией, оказалась очень любопытной.
В начале XX века считалось, что ни рыбы, ни беспозвоночные цвета не различают. Экспериментируя на рыбах, Фриш сумел натренировать разные особи гольяна по‐разному реагировать на разные цвета. На этой почве случилась научная ссора Фриша со старым и авторитетеным офтальмологом Карлом фон Гессом, который придерживался другого мнения и пытался дискредитировать работу Фриша. Впрочем, потом Фриш решил, что нападки Гесса – это благо, так больше учёных узнают о его работе.
Но рыбы – это рыбы. Как говорится, с ними не всё однозначно на первый взгляд. Будучи дарвинистом, Фриш понимал – у точно должно быть цветное зрение, всё‐таки их пища – в цветках. С 1912 года Фриш переходит обратно в Мюнхен и начинает экспериментировать с пчёлами. Доказать, что пчелы различают цвета оказалось достаточно просто – сначала еду помещали на квадрат определенного цвета, и весьма быстро на этот квадрат и без пищи, даже если этот квадрат поменять местами с квадратами других цветов…
Дальше была война. Всем стало не до пчёл. У Фриша было слабое зрение, потому фронт его миновал. Однако медицинское образование было никуда не деть, и Фриш до 1919 года работал в военном госпитале около Вены. В январе 1919 он вернулся в институт, и именно в этом году он сделал главное свое открытие, принесшее ему Нобелевскую премию через 54 года.
Документальный фильм о танце пчёл.
Он пометил краской несколько рабочих пчел и изучал поведение пчелы, которая нашла пищу и вернулась в улей.
Предоставим слово самому Фришу: «Я едва мог поверить своим глазам, когда она исполнила круговой танец на медовых сотах, чем привела в находящихся рядом с ней пчёл, помеченных краской, которые немедленно полетели к месту кормёжки… Это было, как я думаю, наиболее важное наблюдение в моей жизни, во всяком случае, имеющее самые далеко идущие последствия».
Фриш изучал танец пчёл всю свою жизнь. Он узнал, что различается – если пища близко, то танец круговой, если далеко (дальше 85 м) – «вихляющий», в виде восьмерки. Узнал, что танцем пчелы указывают угол между местонахождением пищи и солнцем, и что при переменной облачности по плоскости поляризации света от просветов чистого неба…
 Иллюстрация: fu-berlin.de.
Иллюстрация: fu-berlin.de.
Фриш прожил достаточно долгую жизнь для того, чтобы дожить до своей Нобелевской премии. Правда, сам он уже не присутствовал на церемонии. Ученому было 87 лет и награду принимал его сын Отто.
Представлявший лауреатов профессор Берг Кронхольм из Каролинского медико‐хирургического института, сказал: «Поведение животных очаровывало человека с незапамятных времен, об этом свидетельствуют животные в мифах, сказках и баснях. Однако для слишком долго человека пытался понять его на основе его собственных представлений, на основе его собственного образа мыслей, чувств и действий. Описание по этому принципу может быть довольно поэтичным, но не приводит ни к какому увеличению нашего знания о животных».
Закончить свой рассказ о великом Фрише мне тоже хотелось бы цитатой из предисловия к первому изданию его книжки «Из жизни пчёл». Мне кажется, эти слова должны быть в памяти каждого исследователя: «Если естествоиспытатель будет пользоваться слишком сильными увеличительными стеклами, рассматривая простые вещи, то может случиться так, что за оптическими приборами он не увидит самой природы. Нечто подобное произошло лет двадцать назад с одним почтенным ученым, когда он, изучая в лаборатории способность животных воспринимать цвета, пришел к твердому и, казалось бы, хорошо обоснованному убеждению, что пчелы цветов не различают. Это натолкнуло меня на мысль ближе заняться изучением их жизни. Ведь всякий, кому приходилось в природных условиях наблюдать биологическую взаимосвязь между пчелами и цветами с их великолепно окрашенными венчиками, подумает, что скорее ученый мог допустить ошибку в своих выводах, чем природа – подобную несообразность».
Итак, сегодня у нас суббота, 27 мая 2017 года и мы традиционно предлагаем вам ответы на викторину в формате «Вопрос - ответ». Вопросы нам встречаются как самые простые, так и достаточно сложные. Викторина очень интересная и достаточно популярная, мы же просто помогаем вам проверить свои знания и убедиться, что вы выбрали правильный вариант ответа, из четырех предложенных. И у нас очередной вопрос в викторине - За какое открытие австрийский ученый Карл фон Фриш получил в 1973 году Нобелевскую премию?
- A. элемент технеций
- B. инфракрасные лучи
- C. лекарство от проказы
- D. язык пчел
Правильный ответ Д - ЯЗЫК ПЧЕЛ
Тверк является наиболее близким приближением человеческих танцев к реальным танцам пчел. Пчелы танцуют, чтобы указать другим пчелам в улье направление, в котором им следует лететь за едой, например, за нектаром. Они двигают своим брюшком (задней частью тела), чтобы указать расстояние, на которое нужно лететь. Австрийский этолог, лауреат нобелевской премии по физиологии и медицине Карл фон Фриш расшифровал язык пчел, и мы теперь знаем, как он устроен.
Чтобы изучить танцы пчел проводили следующий эксперимент. Недалеко от пчелиного улья размещалось два резервуара со сладкой жидкостью. Пчел, которые находили первый резервуар, метили одним цветом, а пчел, которые находили второй резервуар, метили другим цветом. Вернувшись в улей, пчелы начинали танцевать танец, похожий на тверк. Ориентация танца зависела от направления к источнику сладостей: угол, на который нужно было сместить танец пчелы одного цвета, чтобы он совпал с танцем пчелы другого цвета, с точностью совпадал с углом между первым источником сладости, ульем и вторым источником сладости.
Как были открыты группы крови, почему признания приходится ждать треть века и как день рождения стал всемирным медицинским праздником, рассказывает рубрика «Как получить Нобелевку».
Юность авторов этого текста прошла, как и у многих наших ровесников, под песни Цоя. Все мы смотрели на звезду по имени Солнце, влюблялись в восьмиклассниц, ждали перемен, удивлялись алюминиевым огурцам и запоминали свою группу крови, просто так - потому что до армии было еще далеко. И мало кто знал: если бы не застенчивый австрийский профессор, не было бы ни той самой песни Цоя, ни своей группы крови. Потому что группы крови открыл именно Карл Ландштейнер. И получил свою Нобелевскую премию через тридцать лет после того, как точно выяснил, почему кровь одного человека может не подойти другому.
Карл Ландштейнер
Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1930 года. Формулировка Нобелевского комитета: «за открытие групп крови человека».
Эксперименты с переливанием крови или ее компонентов проводились в течение многих сотен лет. Были спасены сотни жизней, еще больше пациентов погибло, но никто не мог понять, почему кровь, перелитая от одного человека к другому, в одном случае творит чудеса, а в другом - стремительно убивает. И лишь вышедшая в 1901 году в австрийском медицинском журнале статья ассистента кафедры патанатомии Венского университета Карла Ландштейнера «О явлениях агглютинации нормальной крови человека» позволила превратить переливание крови из лотереи в рядовую медицинскую процедуру.
Началом истории переливания крови можно считать открытие в 1628 году английским врачом Уильямом Гарвеем циркуляции крови. Если кровь циркулирует, почему бы ее не попробовать перелить тому, кто в ней так нуждается? Более тридцати лет было потрачено на эксперименты, но только в 1665 году появилась первая достоверная запись об успешном переливании крови. Земляк Гарвея - Ричард Ловер - сообщил о том, что удалось внедрить кровь от одной живой собаки другой. Медики продолжили эксперименты, результаты которых выглядели совсем не оптимистично: переливание человеку крови животных вскоре было запрещено законом; вливание других жидкостей, вроде молока, приводило к серьезным побочным реакциям. Впрочем, полтора века спустя, в 1818 году, в той же Британии, акушер Джеймс Бландел вполне успешно спасает жизни рожениц с послеродовым кровотечением. Правда, выживает только половина его пациенток, но и это уже отличный результат. В 1840 году проходит успешное переливание цельной крови для лечения гемофилии, в 1867-м уже заходит речь о применении антисептиков при переливании, а спустя год на свет появляется герой нашего рассказа...
Карл Ландштейнер родился в Вене 14 июня 1868 года. О детстве будущего нобелевского лауреата известно немного. Он рано, в шесть лет, потерял отца - Леопольда Ландштайнера, известного юриста, журналиста и издателя газеты. Тихий и застенчивый Карл был очень предан матери Фанни Хесс, которая, овдовев, постаралась обеспечить сыну благополучное будущее. Говорят, ее посмертную маску он хранил в своем кабинете всю жизнь.
Ойген Бамбергер, один из учителей Ландштейнера 1857–1932). Немецкий химик, ассистент знаменитого Адольфа фон Байера, нобелевского лауреата 1905 года, синтезировавшего индиго, фенолфталеин, барбитуровую кислоту.
Wikimedia Commons
После окончания школы Ландштейнер поступил на медицинский факультет Венского университета, где увлекся биохимией. Одновременно с получением диплома в 1891 году выходит и первая статья Карла, посвященная влиянию диеты на состав крови. Но молодого медика увлекает органическая химия, и следующие пять лет он проводит в лабораториях автора реакции синтеза пиридина Артура Рудольфа Ганча в Цюрихе, будущего нобелевского лауреата и исследователя сахаров (скольких он нобелиатов воспитал!) в Вюрцбурге и Ойгена Бамбергера в Мюнхене (кстати, последний - первооткрыватель известной реакции получения аминофенолов, названной перегруппировкой Бамбергера).
Вернувшись в Вену, Ландштейнер возобновил медицинские исследования - сначала в венской больнице общего профиля, а затем, с 1896 года, в Институте гигиены под руководством знаменитого бактериолога Макса фон Грубера. Молодого ученого очень интересуют принципы работы механизма иммунитета и природа антител. Эксперименты проходят успешно - буквально за год Ландштейнер описывает процесс агглютинирования (склеивания) лабораторных культур бактерий, к которым добавили сыворотку крови.

Макс (Максимилиан) фон Грубер (1853–1927). Австрийский бактериолог и гигиенист. Знаменит не только открытием агглютинации, но и работами по гигиене, в том числе сексуальной и расовой.
Общественное достояние
Через пару лет Карл вновь меняет работу - он занимает пост помощника на университетской кафедре патологической анатомии в Вене и попадает под крыло двух выдающихся наставников: профессора Антона Вехсельбаума, выявившего бактериальную природу менингита, и Альберта Френкеля, первым описавшего пневмококков (российские микробиологи знакомы с терминами «диплококк Вехсельбаума» и «диплококк Френкеля»). Молодой ученый начал работу в области патологии, проведя сотни вскрытий и существенно улучшив свои знания. Но все больше и больше его увлекала иммунология. Иммунология крови.

Антон Вехсельбаум, еще один учитель Ландштейнера (1845–1920)
Wikimedia Commons
И вот зимой 1900 года будущий нобелиат взял образцы крови у себя и пяти своих коллег, при помощи центрифуги отделил сыворотку от эритроцитов и принялся экспериментировать. Выяснилось, что ни один из образцов сыворотки никак не реагирует на добавление «собственных» эритроцитов. Но почему-то сыворотка крови доктора Плетчинга склеила эритроциты доктора Штурли. И наоборот. Это позволило экспериментатору предположить, что существует как минимум два вида антител. Ландштейнер дал им наименования А и В. В собственной крови Карл не обнаружил ни тех, ни других и предположил, что есть еще и третий вид антител, которые он назвал С.
Самая редкая - четвертая - группа крови была описана как «не имеющая типа» одним из добровольных доноров и заодно учеником Ландштейнера доктором Адриано Штурли и его коллегой Альфредом фон Декастелло два года спустя.
А пока Карл, открытие которого вызвало среди его коллег лишь сочувственную улыбку, продолжает эксперименты и пишет статью в Wiener klinische Wochenschrift , в которой приводит знаменитое «правило Ландштейнера», которое легло в основу трансфузиологии: «В организме человека антиген группы крови (агглютиноген) и антитела к нему (агглютинины) никогда не сосуществуют».

Ян Янский (1873–1921). Чешский психиатр и невропатолог. В поисках связи особенностей агглютинации крови с душевными заболеваниями экспериментировал с кровью 3 160 больных психозами и пришел к выводу, что людей по крови можно разделить на четыре группы (Ландштейнер описал только три, и о его работах Янский ничего не знал). Это было своего рода побочное наблюдение, и его важность медицинская общественность не прочувствовала. А связи с психозами Янский так и не нашел и потерял к крови всяческий интерес, занявшись изучением спинномозговой жидкости.
Wikimedia Commons
Публикация Ландштейнера не произвела в научном сообществе должного фурора, и это привело к тому, что группы крови еще несколько раз «переоткрыли», и с их номенклатурой возникла серьезная путаница. В 1907 году чех Ян Янский назвал группы крови I, II, III и IV по частоте, с которой они встречались в популяции. А Уильям Мосс в Балтиморе (США) в 1910 году описал четыре группы крови в обратном порядке - IV III, II и I. Номенклатура Мосса широко использовалась, например, в Англии, что приводило к серьезным проблемам.
В конце концов этот вопрос раз и навсегда был решен в 1937 году на съезде Международного общества переливания крови в Париже, когда была принята нынешняя терминология «АВ0», в которой группы крови именуются 0 (I), A (II), B (III), AB (IV). Собственно, это и есть терминология Ландштейнера, в которой добавилась четвертая группа, а С превратилась в 0.

Иллюстрация из нобелевской лекции Ландштейнера
Кстати, потренироваться в типировании групп крови можно в специальной игре на сайте Нобелевского комитета.
Благодаря открытию Ландштейнера стали возможны оперативные вмешательства, которые раньше заканчивались фатально из-за массированного кровотечения. Существуют подсчеты, которые говорят, что открытие Карла Ландштейнера спасло больше всех жизней в истории человечества. Более того, открытие групп крови даже позволяло с некоторой достоверностью определить отцовство. Но это светлое будущее медицины наступило потом, когда ученые наконец смогли принять тот факт, что в крови человека может происходить «какая-то там борьба». Возможно, прогресс задержал в том числе застенчивый характер «кабинетного» исследователя, который не стал активно продвигать результаты своего открытия в ученые массы...
А пока у Ландштейнера остается только один лаборант, вместе с которым он делает еще несколько важных открытий: описывает свойства агглютинирующих факторов и способность эритроцитов абсорбировать антитела. Затем совместно с Джоном Донатом описывает эффект и механизмы холодовой агглютинации эритроцитов. И постепенно охладевает к исследованиям свойств крови, тем более что в 1907 году он получает новое назначение - становится главным патологоанатомом Венской королевской больницы Вильгельмины. А начавшаяся в Европе год спустя эпидемия полиомиелита заставляет Карла изменить приоритеты в научной работе и заняться поисками возбудителя этого смертельного заболевания.
Исследователь экспериментирует, вводя препарат нервной ткани умерших во время эпидемии детей различным животным. У морских свинок, мышей и кроликов ему не удается вызвать развитие болезни и наблюдать гистологические изменения. Но последующие эксперименты на обезьянах наконец дают результаты - у животных развиваются классические симптомы полиомиелита. Но работу в Вене приходится свернуть из-за недостатка лабораторных животных, и Ландштейнер вынужден отправиться в Институт Пастера в Париж, где была возможность ставить эксперименты на обезьянах. Считается, что его работа там, параллельно с экспериментами Флекснера и Льюиса, заложила основу современных знаний об иммунологии полиомиелита.

Вирус полиомиелита. Электронная микрофотография
Wikimedia Commons
В этом же году на заседании Императорского общества врачей в Вене Ландштейнер сообщил об успехе эксперимента по передаче полиомиелита от человека к обезьяне. Доклад ученого снова не привлек должного внимания, так как возбудителя ему выделить не удалось, и он выдвинул предположение, что полиомиелит вызван не бактерией, а неизвестным вирусом. Тем не менее в работе 1909 года, опубликованной вместе с Эрвином Поппером, вирусная природа полиомиелита - уже не предположение, а медицинский факт: вирус найден и выделен в чистом виде.
В 1911 году Ландштейнер получает заслуженное звание профессора в Венском университете. А в 1916-м застенчивый ученый наконец смог связать себя узами брака. Его избранницей стала Хелен Власто, которая уже через год родила Карлу сына Эрнста.
А тем временем Австро-Венгрия пришла к распаду, на фоне поражения в Первой мировой войне началась разруха. Семья Ландштейнера оказалась на грани голодной смерти, а научная работа и вовсе стала невозможной. Карл принимает решение уехать в Нидерланды, где ему удалось получить место прозектора небольшой католической больницы в Гааге. И за три года работы в этой должности ученый умудрился опубликовать двенадцать статей, в частности, первым описав гаптены и их роль в иммунных процессах, а также специфику гемоглобинов разных видов животных.
В 1923 году он получил приглашение от Рокфеллеровского института медицинских исследований в Нью-Йорке, куда и отправился вместе с семьей. Хорошие условия, предоставленные институтом, позволили Ландштейнеру организовать там лабораторию иммунохимии и продолжить исследования. Спустя шесть лет, в 1929 году, семья Ландштейнера получила американское гражданство.
А следующий год принес Карлу Ландштейнеру приятный сюрприз: он получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине «за открытие групп крови человека» - через три десятилетия после самогό открытия.
Кстати, снова - удивительное дело: в 1930 году на премию по медицине было заявлено 139 номинаций. И Ландштейнер отнюдь не был фаворитом. Его за всю историю-то номинировали всего 17 раз, и в 1930-м - лишь семь. А конкуренты были серьезные. На второго «Нобеля» номинировали , номинировался «отец генетики» Томас Хант Морган... Абсолютным лидером оказался Рудольф Вайгль, автор вакцины от сыпного тифа - 29 номинаций! И тем не менее премия досталась пожилому Карлу. Кстати, в 1932 и 1933 годах Ландштейнер номинировал на премию Моргана, которую он таки получил в 1933-м.
В 1939 году в возрасте 70 лет он получил звание «Почетный профессор в отставке», но Рокфеллеровский институт не бросил и продолжал работать. А спустя год он с коллегами-учениками Александром Винером и Филиппом Левиным открыл еще один важнейший фактор крови человека - резус-фактор. Параллельно исследователи выявили связь между ним и развитием гемолитической желтухи у новорожденного: резус-положительный плод может вызывать у матери выработку антител против резус-фактора, что приводит к гемолизу эритроцитов, превращению гемоглобина в билирубин и развитию желтухи.
Несмотря на почтенный возраст, Ландштейнер оставался крайне энергичным человеком и блестящим исследователем, но при этом становился все большим мизантропом. В нью-йоркской квартире и доме в Нанкасте, которые он купил благодаря получению премии, профессор так и не поставил телефон и постоянно требовал от окружающих соблюдения тишины. Последние годы жизни Ландштейнер посвятил исследованиям в области онкологии - его жена страдала раком щитовидной железы, и он отчаянно пытался понять природу этого заболевания. Но ничего серьезного в этой области он сделать так и не успел. 24 июня 1943 года прямо в лаборатории у Карла Лайндштейнера случился обширный инфаркт, и спустя два дня он умер в институтской больнице.
Тем не менее награды и почести не заканчивались. В 1946 году ему посмертно присудили премию Ласкера («вторая нобелевка по медицине для США»), его портреты можно встретить на почтовых марках и купюрах, а с 2005 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения день рождения Карла Ландштейнера сделали памятным для всего мира. Отныне это - Всемирный день донора крови.